Прямо в ранних сумерках ему захотелось увидеть финиш своей жизни — громадная необъятная сосна и слегка покачивающееся тело в парадной шинели. «Вот только китайские кроссовки чрезвычайно нелепы, — подумал он с огорчением, — поношенные, с красной прострочкой… Эх, сапоги бы!» Ухватив шинель, он подался из шалаша.
Примерять шинель с капитанскими погонами он взялся совершенно обычно, потому как вещь им предполагалась чужой, но когда на серебристой грязной подкладке мелькнула еле приметная буква Ф — его фирменная, с наклоном, больше похожая на глобус, он вздрогнул, словно от удара хлыстом: его лейтенантская шинель! Он схватил шинель трясущимися руками как самую драгоценную на земле вещь, стал разглядывать и умилённо гладить шершавой ладонью. Его шинелюшка, его!
И сразу очень ясно вспомнилось, отчего на погонах по четыре звездочки, — на ноябрьский (ещё социалистических времён!) парад он стоял ассистентом при полковом знамени. Высокий, статный, с шашкой наголо, с красной атласной перевязью — загляденье было неописуемое! А быстро «вырасти» до капитана ему приказал командир полка, чтобы ассистент при знамени смотрелся солидно!
Потом ещё был парад… затем шинель праздничного применения более не имела… Потом, после увольнения, он собрал две коробки военных шмоток, пристроил их в гараже сослуживца и, как водится, забыл. Да и сдалась ему тогда эта пошлая военная форма, когда накатил гражданский рай?..
Сейчас же лейтенантскую шинель Фалолеев воспринял как дорогого воскресшего друга. «Милая шинелька, подружка… счастливых… сладостных дней!» — прижался он худой изувеченной щекой к тиснённому золотому погону. Всё в голове Фалолеева всплыло: как шили её в ателье, как ещё курсантом ходил он на примерку, аж сердце рвалось тогда из груди, в зеркало не мог на себя насмотреться! Казалось, будто горные снега, осиянные лиловым лунным светом, плотно окутали его плечи и подтянутое молодецкое тело… А уж как красив, шикарен был взмах длинной расстёгнутой полой — почти как у кавалеристов гражданской войны! Воздух загребало, будто парусом, и как сверкали оттуда начищенные до блеска голенища!
С неё, с верной шинельки, начинался путь в эту страшную, как оказалось, жизнь… Теперь грязная, рваная, прожженная… она обычной тряпкой доживала свой век. И у неё, бедолаги, если разобраться, тоже не сложилась настоящая военная судьба… про парады страна забыла…
Фалолеев, потрясённый открытием и трепетными воспоминаниями, влез в шинель, застегнулся, повертелся, оглядывая себя с боков, действительно, теперь оба — расходный материал…
Он забыл про сосну и, как был облачён в шинель, возвратился в своё логово на ветки спать. Но воспоминания не отпускали, а сон не шёл. По всему выходило, что сейчас сердце его должно было так съёжиться, так сдавиться от жалости к себе, что или лопнуть тотчас, или превратиться в сухой камень — в любом случае с неминуемой смертью, ибо что может быть жальче того последнего взбалмошного десятка лет, в которых растратилась вся его жизнь?!
Однако тут обнаружилось, что сил жалеть себя у него не осталось. Его угнетённое, но всё же ясное сознание лишь бесстрастно заключало — пепел остался не только от его прошлого. Куда он ни бросит взор, куда ни сунется искать выход — везде пожарище, опустошение, смерть… Пора с этим кончать, завтра будет последний поход за надеждой. И если от Риты прозвучит прежнее «не знаю», то он уже решил, что делать…
И тут к нему, настроенному на красную смерть «варягу», всё же подкралась жалость, никуда не делась (!), и слёзы безнадёжного отчаяния прорвались ручьём… Он засыпал, объятый теплом родной шинели, ближе которой ничего уж на свете не существовало, и беда, так цепко давящая сердце в бодрости разума его, наконец, ослабила безжалостную хватку, отвалилась в сторону, словно хлебнула дурманящего наркоза.
А он спал и видел себя в этой шинели, только что сшитой, дымчато-голубой, но уже с капитанскими погонами; в модной неуставной фуражке «аэродром»; и увесистая шашка, что полированным эбонитовым эфесом с первого раза ладно легла в его руку, теперь тусклым нержавеющим лезвием торжественно покоилась на плече… рассветным огнём сияла праздничная алая перевязь…
Он стоял посреди серого унылого поля, от края до края устланного ужасным могильным пеплом, стоял чистенький и ухоженный, как невеста, но дух его, растерянный и подавленный до пронзительной, выворачивающей всё и вся тоски, мучился давним и самым главным вопросом — куда идти, в какой стороне обретать спасение?
Читать дальше
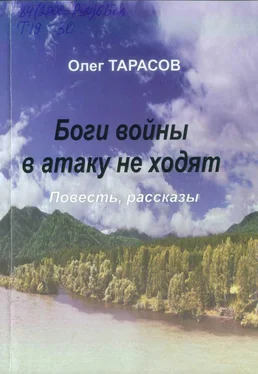



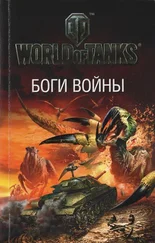

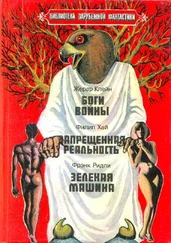
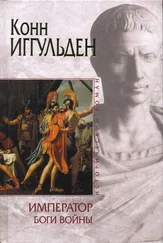
![Виктор Мишин - Боги войны [litres]](/books/384469/viktor-mishin-bogi-vojny-litres-thumb.webp)
![Олег Радзинский - Боги и лишние. неГероический эпос [litres]](/books/430108/oleg-radzinskij-bogi-i-lishnie-negeroicheskij-epos-thumb.webp)
