Загроможденный русскими отрезок тирренского пляжа стал моим читальным залом. Разумеется, читал я и в других местах: под резными тенями каштанов; на балконе нашей квартиры; в поезде, мчащем меня в Рим или обратно; и даже в ожидании моей итальянской пассии на заднем сиденье ржавого «Мустанга». Но книгу рассказов Набокова я проглотил именно на пляже, в первые дни в Ладисполи, и эта книга в каком-то смысле изменила мою жизнь.
Когда мы уезжали из СССР, книги Набокова, запрещенные до 1986 года, только начинали свое триумфальное возвращение. До эмиграции я прочитал роман «Пнин»: в феврале или марте своей последней советской весны читал всю ночь напролет изданную за границей книгу, которую кто-то одолжил родителям на два дня. Я тогда читал «Пнина» не в оригинале, а в переводе Геннадия Барабтарло, к которому приложила руку и вдова писателя Вера Набокова (Слоним). Американское издательство «Ардис», переиздавшее репринтно многие эмигрантские книги Набокова, выпустило перевод «Пнина» в 1983 году. Эти запрещенные ардисовские издания в мягких одноцветных обложках попадали в СССР в багаже иностранных туристов или же в сумках дипломатов и начинали свое подпольное хождение. Читая до рассвета «Пнина» в русском переводе, я ощущал, что проза необычайно насыщена чем-то, что я не мог тогда ясно определить, какой-то пьянящей словесной свободой. Местами русский язык переводчика чересчур выгибал спину, будто евнух, хлопочущий над той или другой прелестницей в гареме властелина. Но какой гарем!
Мне почему-то запомнился один эпизод. Уже за полночь, я читаю в постели и слышу доносящийся из родительской спальни разговор: «Она ночью приходила к сестре в постель… только что умерла в родах в Италии… как брат и сестра… хотел ее… это случается, ты знаешь…» Я тогда не знал, а только потом понял, что мои родители обсуждали сцену из «Подвига», одной из моих самых любимых вещей Набокова, которую я прочитал в Италии сразу после «Весны в Фиальте». В этой сцене Соня-змея забирается в постель к Мартыну-мартышке, который ночует в спальне Сониной сестры в лондонском доме ее родителей. Мои родители, наверное, тогда посчитали, что мне рано читать о том, как преступают границы братско-сестринской любви.
Какие они были, рассказы в «Весне в Фиальте»? Мне слышались в них отголоски Чехова, особенно «Дамы с собачкой», в рассказе, давшем название всему сборнику. Но в то время я был убежден — и только потом, в Америке, осознал неправоту своего юношеского нигилизма, — что, в отличие от Чехова, Набоков возвышенно неморалистичен. Мне тогда ужасно нравилось отсутствие в рассказах Набокова всех этих разговоров о «новой, прекрасной жизни», которая таилась за углом приморской улочки и вот-вот должна была начаться. Кроме Чехова я чувствовал влияние старшего эмигрантского соперника Набокова, Бунина, особенно в тех местах, где Набоков описывал страсть и выводил из рассказов уже использованных персонажей. У меня и в мыслях не было, что Набоков мог учиться у русских классиков, особенно у Толстого.
Западные модернисты? Из того, что я прочитал еще в Москве в переводе, веяло чем-то прустовским. И еще на ум приходили Кафка и его беспощадная ясность дикции. Но большей частью рассказы в «Весне в Фиальте» были совсем другие, непохожие ни на что из того, что я раньше читал. Я подозревал, что нечто в этом роде могло существовать, но не в книгах русских писателей. Среди моих друзей, питавшихся всем, что можно было достать в переводе, я слыл аномалией, чуть ли не русофилом. В те времена мой лучший друг Миша Зайчик ходил по Москве в поисках старых выпусков «Иностранной литературы», находил переводы Музиля, Томаса Вульфа, Кавабаты и отдавал их в переплетную, чтобы сохранить навек.
Чтение русских рассказов Набокова в Италии, через пару недель после эмиграции из Советского Союза, было сродни потере невинности. Это чтение одновременно будоражило и опустошало. Молодой беженец, лишенный своей естественной среды, я нуждался как раз в том, чтобы меня соблазнили и унесли в иные стихии. И рассказы Набокова это сделали. Утоление этой жажды на средиземноморском курорте, на пляже, который заполонили одесские цирковые трюкачи с крикливыми женами и горланящими чадами, было для меня уходом из трехмерного мирка с черным обжигающим песком, усеянным черешневыми косточками и окурками, исчезновением из обыденного пространства и переходом в иной средиземноморский курорт под названием Фиальта, где судьба сводит любовников лишь на последнее, изгнанническое свидание, где сочинители пьют «голубиную кровь» для бессмертия и буржуазный брак теряет смысл за краем вечности. В этом ином измерении сам ход времени можно остановить или даже преодолеть. Я помню, что рассказ «Весна в Фиальте» сразу же показался мне совершенством, будто лучше уже невозможно. Я выделил для себя еще один рассказ Набокова того же периода. Он называется «Облако, озеро, башня»; в конце стоит: «Мариенбад, 1937». Спустя три или четыре года, уже занимаясь его творчеством в аспирантуре, я узнал, что Набоков написал этот рассказ, покинув Германию навсегда. Он в то время переживал бурную любовную связь с русской парижанкой, и эта связь угрожала благополучию его брака. В ключевые минуты набоковский рассказчик присоединяется к главному герою, русскому эмигранту, которого он называет своим «представителем», чтобы вместе с ним вырваться из плоскости повествования и обратиться к кому-то со словами «Любовь моя! Послушная моя!» Адресат этих слов — любимая женщина, жена, далекая возлюбленная, феминизованная Россия… и сам читатель (читательница).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


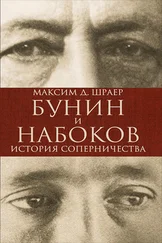

![Максим Шраер - Исчезновение Залмана [litres]](/books/435303/maksim-shraer-ischeznovenie-zalmana-litres-thumb.webp)


