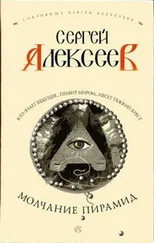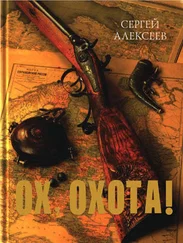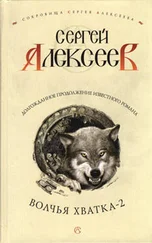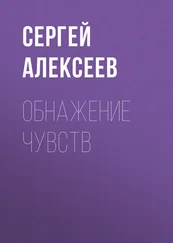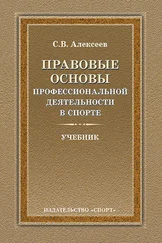— Ладно, Трофимыч, иди в кузню!
Оказывается, у дяди Пети Рудмина уволили загулявшего молотобойца, и освободилось «теплое» место с полупудовой кувалдой. Я готов был плясать от радости: кроме настоящей, мужской работы появлялась наконец возможность построить аэросани: без кузницы здесь было не обойтись.
— Ты только слушайся меня, понял? И я из тебя настоящего кузнеца сделаю! — пообещал он и добавил: — А если кто чужой возраст спросит, скажи — тебе восемнадцать.
И вот этот последний наказ Ивана Трофимовича показался мне тогда вершиной доверия; я поклялся себе, что расшибусь в доску, а его оправдаю. Я видел себя мальчишкой, прибавившим годы и уходящим на фронт — не менее! Крепко пожав протянутую мне руку, я пошел осваивать кузнечное дело, еще не подозревая, что учить ему меня будет совершенно другой человек, причем учить не только одному ремеслу…
Потом понадобилось еще много времени, чтобы уяснить одну нехитрую истину: нельзя цепляться за все протянутые тебе руки. Из всего их множества нужно было выбрать одну, самую верную и надежную, и потом уж не отпускать, как бы ни трепало тебя. Но даже и уяснив ее, я еще долго не мог проходить мимо поданных рук, и меня водили как бычка на веревочке, пока, вдоволь не нахлеставшись мордой об лавку, не набил себе крепкую шишку памяти.
В промкомбинатовской кузнице было три кузнеца, и наковальни их стояли по ранжиру. За первой, сразу напротив дверей, в «красном углу», работал дядя Петя Рудмин — самый длинный по росту и оттого какой-то нескладный, сутулый, тощий, носатый и кадыкастый; за ним — дядя Леня Вылегжанин, много ниже ростом, белый лицом и чаще всего молчаливый, задумчивый и вяловатый; у последней, в дальнем углу, наковальни стоял дядя Миша — маленький, вертлявый и черноватый мужичок с огромными, как маховики, руками, висящими ниже колен. И был еще молотобоец Боря, работавший сразу у двух кузнецов, краснощекий, толстый и меланхоличный парень, но необыкновенный здоровяк. Из всех мужиков я знал хорошо лишь дядю Леню: он был родом из деревни Митюшкино, где родились мои родители, в парнях гулял с моим отцом и с какого-то дальнего бока считался родственником. То ли кум, то ли сват, то ли с запечи ухват. С дядей Петей мы познакомились, когда я еще работал у Барнована. Уже тогда его молотобоец загуливал, и Рудмин работал в одиночку, отчего был какой-то тоскливый и сумрачный.
— Айда-ко, парень, побеседуем, — звал он, когда я заглядывал в кузню. Но беседы у нас никогда не получалось — он спрашивал что-нибудь, а потом, замолкнув, только сопел своим горбатым носом и швыркал, как селезень, толстой, полуразмокшей самокруткой в углу губ. Иногда он просил «вдарить» кувалдой — отрубить что-то, пробить дыру, загнуть; я с удовольствием поднимал молот и бил со всех сил.
— Окороти! Окороти! — прикрикивал он и будто веселел. — Убьешь ведь, лешак!
Зато третьего кузнеца, дядю Мишу, я и вовсе не знал, поскольку он постоянно копошился что-то в своем углу, ворчал на молотобойца Борю и в разговоры не вступал. Глянет только оттуда черными глазами, подвигает широченными бровями и снова к горну, будто баба к печи — только заслонка гремит.
Но сама обстановка в кузне была давно присмотрена и хорошо знакома: жестяные пирамиды вытяжных труб над горнами, черный потолок, краснокирпичные, в копоти, стены и белые, слепящие без привычки огни. А еще здесь были инструменты, много инструментов — тисы, разнокалиберные клещи, протяжки, зубила, обсадки, обойники, бородки на деревянных ручках, оправки — все было самоковным, вселяло ощущение вечности, крепости и какой-то жилистой ухватистости, как сами кузнецы. Возле самой двери стоял единственный механизм — громоздкий и старинный, выпуска 1891 года, сверлильный станок. Кузнецы утверждали, что он ни разу за всю жизнь не ломался, хотя масло свистело из него из всех дыр, а когда его включали, то в Зырянском райисполкоме и милиции, стоящих по соседству, звенели в окнах стекла.
И был еще в кузнице особенный дух — горячий дух раскаленного железа, пылающего в горне угля и кисловатый запах остывающей окалины.
Дядя Петя уже несколько дней тосковал без молотобойца, ковал в одиночку болты, гайки, курил, дремал, стоя возле горна, как лошадь, поэтому, едва я ступил через порог, он всучил мне кувалду и поставил к наковальне.
— Ну, давай, парень, работать!
И сразу как-то просветлел, зарозовел его огромный, будто оттянутый и закаленный в горне нос, а от черных глаз побежали веселые морщинки. Он скинул мятую, изжеванную шапчонку, обнажив на свет реденькие и шелковистые на вид волосенки, обернулся к дяде Лене и сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу