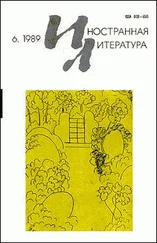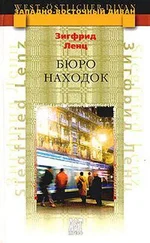Старый бортрадист обхватил урну с великой осторожностью, он держал ее, крепко прижав к телу, потом понес на корму и по знаку пастора открыл ее, открыл и поднял над бортом. Я не поверил своим глазам, Стелла, это была тоненькая струйка пепла, отделившаяся от урны, ветер только слегка поднял струйку вверх и тут же прижал ее к воде. Вода очень быстро поглотила пепел, не осталось и следа, никакого доказательства, лишь угадывалось безмолвное исчезновение, азбука прощания. И хотя он стоял и стоял и неотрывно глядел на воду, но и для твоего отца не оставалось ничего другого, как взять венок, которому он не дал просто упасть в воду, он выбросил его далеко в море, с такой силой, которая удивила меня. Вслед за ним и остальные побросали букеты в воду, большей частью в связанном виде, наш учитель физкультуры и двое других учителей развязали цветы и пустили их по воде по одному вдоль борта, где их подхватило легкое течение, мне казалось, от них исходит свечение, пока они качались на подвижной воде. В этот момент я понял, что эти подхваченные течением цветы навечно станут частью моей беды, и я никогда не смогу забыть, с какой трогательностью символизировали они мою утрату.
Сомнений не было: цветы несло на Птичий остров, скоро они доплывут до редко посещаемого пляжа; я соберу их там, подумал я, и буду один приходить туда и охранять их, чтобы они не гнили как водоросли, которые вырвало из глубин беспокойное море, я отнесу цветы в хижину орнитолога, разложу их там и засушу, они навсегда останутся в том месте нашей общей памяти, все, что было, будет там и так останется. Я тоже обоснуюсь в хижине на каникулы и буду спать на лежанке из морской травы, во сне мы придвинемся друг к другу, Стелла, твоя грудь коснется моей спины, я повернусь к тебе и буду тебя гладить, все, что сохранила память, возвратится там вновь. А что ушло в прошлое, но все же было на самом деле, никуда не денется, и, снедаемый болью и неизбывным страхом, я буду пытаться найти то, что безвозвратно утрачено.
Когда лодка с участниками траурной церемонии двинулась в путь и медленно заскользила в направлении моста перед отелем У моря , я попросил Фредерика не сразу следовать за лодкой, а объехать сначала Птичий остров. Он удивленно посмотрел на меня, но сделал то, о чем я попросил его.
Я смотрел и не верил своим глазам: я видел Стеллу, она сидела на прибитом к берегу бревне, сидела в своем зеленом купальнике и курила, она, похоже, радовалась чему-то, возможно, тому, как я, по пояс в воде, пробирался к ней. При нарастающей неуверенности я придал сидящей черты твоего лица, Стелла, и, пока наш буксир огибал Птичий остров на небольшом расстоянии от берега, я представлял себе, как мы, взявшись за руки, ходим по берегу и вдруг осознаем под вязами, что у нас обоих есть тайное право на владение этим островом. Меня не интересовало, что думал про меня Фредерик, за косой, где спорили между собой морские птицы — этот вечный базар с разинутыми клювами и растопыренными крыльями, — Фредерик спросил меня, не хочу ли я сойти на берег; я отмахнулся и дал ему понять, что он может поворачивать домой, следовать за остальными участниками траурной церемонии, чья лодка уже причалила к мосту перед отелем У моря , и они уже покинули ее, я это видел в бинокль, и расселись в садике за столиками кафе.
Жизнь — как это, очевидно, и должно быть, уже взяла свое: кельнеры разносили по столикам напитки и закуски — прежде всего пиво, сосиски и фрикадельки с картофельным салатом, — заказы на порции фруктовых тортов гости еще не успели сделать. Я нашел свободное место за круглым столом, господин Куглер, наш воспитатель по искусству, уже сидел там, рядом с ним начальник порта Тордсен, кроме них я поприветствовал еще своего одноклассника Ханса Ханзена и кивнул какому-то незнакомому человеку с круглой головой. Его звали Пюшкерайт, в прошлом учитель, который вот уже много лет жил на пенсии, но по-прежнему поддерживал тесные отношения с нашей гимназией. Он преподавал историю. Как я узнал, этот Пюшкерайт был родом из Восточной Пруссии, из мазуров, говорящих на особом польском наречии; стоило мне произнести это слово, как все, кто его услышал, заулыбались, да я и сам улыбнулся, оно объясняло многое, однако звучало как-то ласково. За остальными столиками царило гнетущее молчание, и все обменивались друг с другом только взглядами, что соответствовало моменту, Пюшкерайт решил, что пришло время вспомнить о похоронах в его семействе, например, дедушки, жившего в скромном домике и умершего в полной гармонии с самим собой. После совместной заупокойной трапезы каждый, кто мог и был готов к этому, рассказывал о памятных событиях из жизни покойного, все говорили о его чистосердечности, упрямстве, радушном лукавстве, а также о его доброте и юморе. Про умершего было высказано столько подробностей из его жизни, что стало казаться, он присутствует на собственных поминках — некоторые его достопримечательности были уже положены к нему в гроб, стоявший в комнате, — и тут вдруг появился некий гениальный музыкант и заиграл на своей гармошке, призывая всех потанцевать. Начальник порта, привыкший, очевидно, мыслить в масштабах пространства, пожелал узнать, а было ли там вообще место для танцев, на что этот Пюшкерайт сказал: «Да, конечно, мы поставили гроб на попа, и места для танцев оказалось предостаточно». Он рассказывал истории, что называется, доисторического периода. Я был уверен, что старый бортрадист, сидевший за соседним столиком, все слышал и не одобрял эти разговоры, он встал и попросил минуточку внимания, а потом сказал ровным голосом: «Никаких разговоров, пожалуйста, здесь и никаких историй».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу