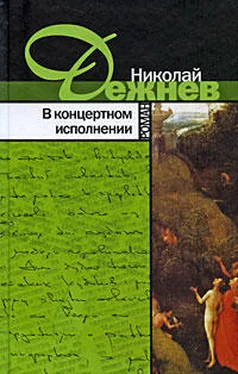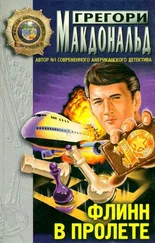— Как по-твоему — умру я?
— Не может этого быть, — ответила невидимая Лукину Глафира.
— Почему? — спросил Булычов. — Нет, брат, дела мои плохи. Очень плохи, я знаю!
Стараясь сохранять остроту зрения, Лукин щурился, не смотрел прямо на свет лампы. В кулисе, где отдыхал обездвиженный охранник, послышались голоса.
— Не верю! — сказала Глафира.
Лукин знал, что за этим следует последняя в первом акте реплика Булычова и идет занавес. Положив край глушителя на кромку отверстия, он направил ствол в сторону невидимой цели, поплотнее прижался к стойке.
— Упрямая, — начал свою последнюю реплику Щукин. — Ну, давай квасу! А я померанцевой выпью, она полезная!
Голоса в дальнем конце сцены усилились, Лукин понял, что нашли тело охранника. Тем временем невидимая ему Глафира проплыла по сцене к рампе, заслонив юбками бивший ему в глаза свет, и в тот же миг Лукин ясно различил в ложе два силуэта. Он выбрал левый, тот, что поменьше, с большой головой на узких плечах, мягко потянул за спусковой крючок. Раздался глухой хлопок. Человек в ложе дернулся и стал заваливаться набок. Будто уважительно провожая его мушкой, Лукин едва заметно сдвинулся и выстрелил вторично. В следующее мгновение двигавшийся по сцене Щукин закрыл от него цель. Не обращая внимания на необычный звук, он продолжал свою роль.
— Заперли, черти, водку! Эки свиньи! Похоже, что я заключенный, арестант!
Что-то тяжелое опустилось сзади на голову Лукина, его руки сами собой разжались, выпуская винтовку. Яркий луч света вдруг ударил сквозь дырку, изогнулся, поплыл, как плыло все вокруг. Пытаясь удержаться на ногах, он сделал шаг назад, но ноги его уже не слушались, и он упал на гладкие теплые доски сцены. Это ощущение гладкости и тепла было последним — в следующее мгновение мир для Лукина перестал существовать.
Очнулся он в камере. С койки, на которую его бросили, была видна железная дверь с глазком, выкрашенная безлико-серой краской стена и привернутый к ней стол. За столом, чинно сложив ручки на животике, сидел круглолицый плешивый мужичонка с редкими усиками и такой же редкой, клочками, бороденкой. С потолка на перевитом косичкой шнуре свисала голая электрическая лампочка. Лукин невольно застонал. Голова раскалывалась, перед глазами плыли красные круги, и обрывки каких-то слов и непонятные фразы независимо от его воли звучали в мозгу.
— А, очнулся, — обрадовался мужичонка. Поднявшись с приставного сиденья, он подошел, остановился над лежащим навзничь Лукиным. — На, попей водички, оттянет! Видно, здорово они тебя приложили, если даже фельдшер приходил, щупал пульс. Ну да все перемелется, мука будет, — философски заметил он, опускаясь на койку напротив. Лукин повернулся на бок, рукавом заслонил глаза от света. Голове немного полегчало, хотя она и гудела, как медный колокол.
— Давно я здесь?
— Давно — недавно, этого никто знать не может. Единственное место на земле, где время не течет, — внутренняя тюрьма Лубянки. Если мозгами пораскинуть, то вроде бы сейчас день, потому что горит свет, да и то неточно — иногда они нарочно жгут его круглые сутки, сбивают с панталыку.
Собравшись с силами, Лукин сел на койке, взял протянутую ему алюминиевую кружку. Вода была теплой, но он пил ее жадно, захлебываясь и проливая на мятую рубашку. Теперь он вспомнил все, вспомнил в подробностях, вспомнил заваливавшуюся набок фигуру и успокаивающее ощущение полированного курка под указательным пальцем.
— Меня зовут Шептухин, — говорил тем временем плешивый, и имя это показалось вдруг Лукину странно знакомым. — Фамилия такая. Может, запомнишь, а нет — тоже беда невелика. Я сексот, секретный сотрудник, значит. Ну, вроде как подсадная утка. Меня специально подсаживают в камеру, чтобы поскорее добиться признания, по-нашему — «расколоть». У меня в этом деле своя метода, психологическая, — я человеку сразу говорю, кто я такой. Можно, конечно, исподлючиться, наврать с три короба или строить всякие каверзы, но только это не по мне. Я гуманист, моя цель уменьшить страдания подследственного. Все едино: рано или поздно признается — человек скотинка слабая! — так зачем же упорствовать, страдания через это принимать…
«Где теперь Анна? — думал Лукин, слушая вполуха откровения сексота. — Наверняка прошло больше суток, и она, должно быть, уже вне Москвы. А там Владивосток, Никольск-Уссурийский, граница…»
— Я даже пришел к убеждению о высшем своем предназначении, — говорил меж тем Шептухин, — мое место в жизни здесь, в тюрьме, и в этом отношении пятьдесят восьмая статья означает справедливость. Я борюсь с человеческим страданием, и это именно то, чем должно заниматься христианину на Земле!
Читать дальше