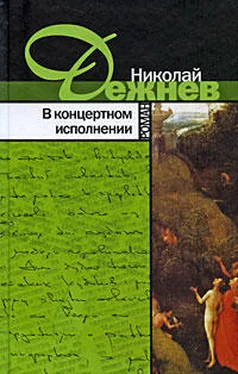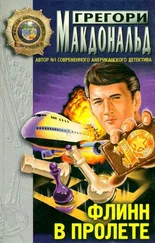Следующие два дня прошли для Лукина под знаком нараставшего напряжения. Из газет стало известно, что в день премьеры «Егора Булычова» в Большом театре состоится торжественное заседание по случаю славного юбилея, которое откроет Калинин. Естественно, ожидалось, что именно в Большом соберется все руководство страны чествовать Горького. Эта новость огорчила Лукина, но на работе над спектаклем никак не сказалась. До премьеры оставались считанные дни, и репетиции шли практически непрерывно в полностью смонтированных декорациях. Правда, выяснилось, что не хватает световых точек и не установлены реостаты, и Лукину пришлось заниматься еще и этим, проводя в театре дни напролет. Когда наконец все вроде бы было готово, Захава отозвал его в сторону и сказал, что так не пойдет и надо бы подкупить кое-что из реквизита.
— Понимаете, — говорил Борис Евгеньевич, прогуливая Лукина по коридору, — вы, по сути, являетесь таким же создателем спектакля, как я или актеры. Вещи, которые зритель увидит на сцене, должны нести в себе внутренний смысл. Возьмите, например, Евангелие, или посох игуменьи, или даже связку грибов — они же не сами по себе, они лучшая характеристика их хозяев! Так что уж вы, голубчик, расстарайтесь, чтобы без дураков!
После такого внушения Лукин поехал на барахолку и докупил недостающее колоритное старье. Человек, прогуливавшийся невдалеке от торгового ряда, показался ему смутно знакомым, лицо его где-то виденным. Это настораживало, и на обратном пути в театр Лукин проверил, нет ли «хвоста», но слежки не заметил. Однако смутное чувство тревоги осталось.
Из-за занятости сцены репетиции Анны проходили прямо в фойе, и они виделись по нескольку раз на дню, вместе обедали в располагавшейся неподалеку столовой. В этих встречах, в прикосновении рук, когда оба избегали говорить о будущем, было нечто от разлитой в теплом воздухе печали угасавшего бабьего лета. Анна ничего не спрашивала, но недоговоренность стояла между ними, придавая каждой встрече остроту прощания, сиюминутную радость видеть друг друга. Украдкой Лукин целовал ее в висок, и она вдруг вздрагивала, и он знал, что счастлив. И еще у них были ночи.
Утром третьего дня Лукин возился на сцене, подгонял отошедший от каркаса щит декорации. Репетиция уже началась, прогоняли первый акт пьесы, и он старался работать тихо, не отвлекая актеров. Акимыч подошел на цыпочках, нагнулся прямо к уху и сдавленным от волнения голосом прошептал:
— Хозяин приехал!
— Кто? — не понял Лукин.
— Кто, кто?! Сталин — вот кто! — передразнил Акимыч. — Алексей Максимович привез похвастаться.
В следующее мгновение в щель между панелями декорации Лукин увидел, как в правой, последней от сцены ложе бенуара открылась дверь и на фоне горевшего в коридоре света появились одна за другой две знакомые по портретам фигуры. Первым вошел невысокий человек с крупной головой на узких прямых плечах, за ним, сутулясь и как бы стесняясь собственного роста, — высокий старик. Любой школьник узнал бы их с первого взгляда. Боковым зрением Лукин заметил движение у обеих дверей партера и на балконах — охрана. Репетиция тем временем шла своим чередом. Сидевший в первом ряду партера Захава даже не обернулся.
Лукин поднялся с колен, привычным движением отряхнул с брюк пыль и пошел не спеша к выходу со сцены. Однако только он отодвинул портьеру, как тяжелая рука легла ему на плечо. Кавказского вида мужчина вопросительно посмотрел на стоявшего рядом с ним, только что не трясшегося от страха администратора.
— Кто?
— Наш рабочий сцены… — сказал тот, запинаясь.
Дав себя обыскать, Лукин спустился по лестнице в фойе и, не обращая внимания на шедшую репетицию, наклонился к ожидавшей своего выхода Анне.
— Уходи! Немедленно!
Потом так же не спеша поднялся в мастерскую и взял с верстака стамеску. Положив инструмент в карман, он вернулся к сцене, но черноволосый кавказец заступил ему дорогу. — Декорация, — сказал Лукин, как говорят с плохо понимающими по-русски людьми, — надо работать.
Охранник покачал головой. Он стоял в полуметре от Лукина, свесив тяжелые руки, квадратные тренированные плечи закрывали проход.
— Вот, — сказал Лукин, доставая из кармана стамеску и как бы протягивая ее мужчине, — я ходил за инструментом…
Охранник переместил вес тела на правую ногу и сделал движение, будто хотел взять протянутую ему вещь, но Лукин, выпустив стамеску, мгновенно нанес ему удар ребром ладони по горлу. Мужчина захрипел, глаза его закатились, лицо из загорелого стало синюшным. Поймав бездыханное тело, Лукин оттащил его в сторону, бросил за портьеру. Вернувшись на сцену, огляделся. Никого не было. Легко ступая по помосту, он дошел до ниши под лестницей, шагнул под настил. Пахло нагретой масляной краской. Голоса актеров звучали совсем рядом за фанерной перегородкой, он узнал Мансурову, игравшую Шуру. Действуя стамеской, Лукин отжал доску на стойке каркаса, извлек винтовку. Прикосновение к оружию успокоило. Он развернул холст, мягко и беззвучно дослал патрон в ствол и вынул сучок-затычку из доски. Яркий, слепящий свет ударил в глаза, он зажмурился. По указанию Дмитриева лампу установили у края сцены, и теперь свет ее бил прямо под лестницу. Темная яма партера едва угадывалась за этой стеной света, не говоря уже о расположенных за нею ложах. Лукин выругался. Сердце бухало в груди, как колокол, кровь стучала в висках. Совсем близко Булычов голосом Щукина сказал:
Читать дальше