Так вот, мой мальчик... Я ведь могу тебя так называть? Что бы то ни было, ты есть все-таки мой духовный наслед! ник и продолжатель. Я ведь чувствую, ты сам тоскуешь по тому, по нашему времени. Так вот, мой мальчик, сначала я тебе выскажу одну банальную, но очень важную истину. Знай же: одних людей уничтожают за то, что они слишком много знают, других — за то, что они слишком много понимают. Первым изредка удается уцелеть, вторым — никогда, ибо они опаснее. Ты слишком много понимаешь, и твои коллеги и друзья стали замечать это. Берегись! Я много знаю, но ничего не понимаю. Потому я до сих пор жив. Но было время, когда и я кое-что понимал, хотя еще мало знал.
В гимназии я все время шел первым учеником. Золотая медаль мне была гарантирована. Все учителя в один голос твердили, что такого чудо-ученика не было за всю историю города. Я уже в тринадцать лет начал печатать стихи и короткие рассказики. И неплохие. Недавно я перечитал это, и мне не было стыдно. Начальство и профессора гимназии были довольно либеральны. Впрочем, как и все в то время, включая полицию и жандармов. Думаю, что от этого либерализма, а не от тяжестей царского режима, произошла революция. Революция всегда суть результат смягчения, а не ужесточения режима. И вот, объявило наше гимназическое начальство конкурс на лучший трактат на любую социально-политическую тему. И решил я написать трактат о марксизме. Марксистская литература водилась у нас дома (мой отец и дядя были социалистами), и я рано начал ее почитывать. Два месяца я днями и ночами сидел над этим трактатом. Сдал его в конкурсную комиссию. И с треском провалился: он не был даже включен в десятку лучших. После этого во мне что-то надломилось, и гимназию окончил лишь с серебряной медалью.
Прошли годы. Страшные, непонятные, ураганные годы. Мы готовили для Сталина очередной «его» гениальный труд. Сталин намекнул нам, что неплохо бы снабдить этот труд философским разделом. И тут я вспомнил про свой гимназический трактат, разыскал его в домашнем архиве, слегка отредактировал («подновил») и принес Сталину. Тот прочитал мой трактат тут же. Лицо его посерело. Глаза стали такими, что не приведи Боже увидеть их вторично. Где взял? — спросил он шепотом. Сам написал, также шепотом ответил я. Врешь, собака! — прошипел он. Украл! У кого украл? Признаешься — помилую, нет — казню! И я в ужасе назвал первую пришедшую мне на ум фамилию: у Станиса. Той же ночью Станиса арестовали и расстреляли. Я же назвал Сталину фамилии членов той самой злополучной гимназической конкурсной комиссии, сказав ему, что эти люди были знакомы с трактатом Станиса. Думаю, что они, если остались живы к тому времени, не избежали страшного суда. После этого я окончательно утратил способность что-либо понимать. Вот и вся быль. А знаешь, почему я тебе рассказал ее? Причем тебе единственному? Нет, сказал МНС. Почему? А ты догадайся сам, сказал Петин. Не могу, сказал МНС. Ну что же, сказал Петин, тогда ты никогда не решишь проблему Сталина. Почему? — спросил МНС. Потому что она в тебе самом, а не в нем, ответил Петин.
Воспользовавшись тем, что МНС отсыпался после обследования у врачихи, Старик увлек Дамочку на прогулку. Хоть цель прогулки была очевидна заранее, и Старик прихватил с собой водонепроницаемый плащ («А вдруг дождь!»), разговаривали сначала на темы большой принципиальной важности. Когда забрались на холм (самое сухое место в округе) и увидели внизу живописную деревушку, Дамочка впала в слезливый русский национализм и начала шпарить наизусть Есенина. Старик расстелил плащ, собеседники уселись и начали любоваться природой, глубоко вдыхая свежий воздух (приговаривая, естественно, после каждого вдоха-выдоха «Ах, какой тут воздух!»). Воспользовавшись перерывом в трескотне Дамочки, Старик сказал, что однажды он тоже впал в национализм. Да в такой дремучий, что стыдно вспоминать. Стишки начал пописывать. И вот однажды в припадке такой национальной слюнявости он сочинил такой стих:
Чего хотел бы я? Родному поклонясь порогу,
С котомкой за плечами выйти на крыльцо.
И чтобы, выцветшим платком прикрыв лицо,
Слезу глотала мать, благословив в дорогу.
Чтобы отец, сурово сдвинув брови,
Меня коснулся жилистым плечом.
Мол, нам, мужчинам, это нипочем,
Мол, дом покинуть — это нам не внове.
И чтоб поклялись помнить до доски
Дружки, со мною выйдя за ворота.
Чтоб за усмешкой затаив заботу,
Моя девчонка сохла от тоски.
Читать дальше





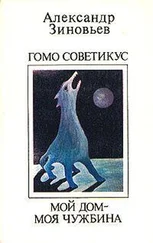

![Никэд Мат - Желтый дьявол [Том 3]](/books/420615/niked-mat-zheltyj-dyavol-tom-3-thumb.webp)
