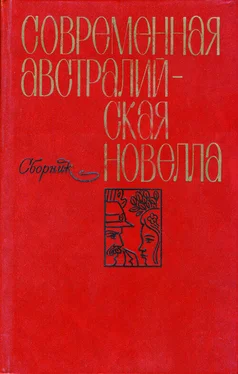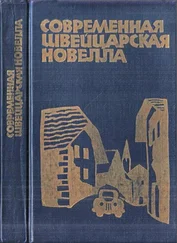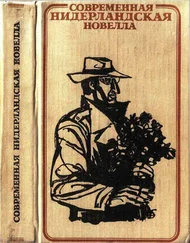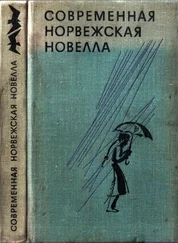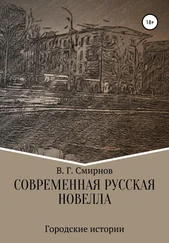Джамбоогахдее худо, я вижу, что ей худо. Старая, почти слепая, она долго упорно крепилась, но выносливость человеческой плоти не беспредельна. Из-за какого-то давнего несчастья ее правая нога короче левой, руки с годами превратились в высохшие птичьи лапы, невесомые кости стали ломкими, как палочки. Она уже никого не узнаёт. Она уже не в силах говорить, около нее стоят две женщины: одна пожилая, другая помоложе, обе озабоченные, встревоженные.
— Она совсем не ест, бедная старая женщина. Мы смотрим за ней, как надо смотрим, все равно не ест.
Пожилая женщина — толстая и некрасивая: всклокоченные сальные волосы, из-под бесформенного заношенного платья выпирает расплывшееся тело, ноги по щиколотку в красной пыли, что постоянно осыпается с крутых склонов пересохшего речного русла. Женщина помоложе, худая и грязная, испуганно смотрит на нас, не произнося ни слова. Слепящий свет, черные, резко очерченные тени, старая Джамбоогахдее лежит под одеялом на смертном ложе из кучи земли, две женщины со скорбным взглядом не спускают с меня глаз, и Чарли, старый Каркоолиоо, будто онемев, стоит рядом и терпеливо ждет.
— Я пригоню грузовик, мы отвезем ее в больницу. Одна из женщин пусть поедет с нами и ты, Чарли, тоже.
Нескончаемая дорога до больницы, нескончаемая жара, я прекрасно понимаю, что Джамбоогахдее уже не нужна никакая больница, и никакая еда, и никакой костер ее не согреет, и никто на свете ей не поможет, и они все понимают это не хуже меня.
Вернувшись из больницы, мы сидим с Чарли в тени на корточках, разговариваем о том о сем, и в стене отчуждения появляется брешь. Чарли рассказывает, как трудно приходится чернокожим на этом свете.
— Никогда не знаешь, что хорошо, что плохо, — говорит он.
Белые люди очень сильные, они все знают и никого не жалеют, чернокожим трудно понять, как живут белые. Машины на колесах, машины без колес, белые люди умеют читать и писать, умеют летать по небу, сколько у них всяких инструментов, и деньги у них есть, и работа, а друг друга они обижают, каждому хочется быть первым, черные люди совсем не такие, нет, они все одинаковые, все друг другу помогают, у них не бывает, чтобы один попал в беду, а другой на его беде разбогател, так жили отцы и деды, так чернокожие живут и сейчас.
— Белые захватили эту землю. Черным пришел конец.
Чернокожий старик понимает, что племя его гибнет, что ему не на что надеяться; глубокий старик, настоящий человек, великий человек для своих соплеменников; вся мудрость чернокожих хранится в его голове со впалыми висками, вся мудрость его земли, его народа, все крупицы мудрости, что этот старик накопил за свою долгую жизнь; и он знает, какую участь уготовили белые его собратьям. Чернокожий старик понимает, что восторжествовал безжалостный закон белых, закон грубых, бессердечных, корыстных, жестоких, ненасытных белых людей и ему, чернокожему старику, не на что надеяться. Чарли уходит вниз, к реке, и в неярких лучах заходящего солнца я отчетливо вижу призрак гибели у него за спиной.
При свете керосиновой лампы я читаю газеты, купленные в городе. Новости из моего мира.
Потом бросаю газеты под койку и встаю. Ночь теплая и тихая; неуклюжий совенок пролетает над моей головой, потревожив крыльями неподвижный воздух. Я стою у палатки, и мне кажется, что я понимаю, какие чувства обуревают Каркоолиоо и его соплеменников, ввергнутых в непостижимый, враждебный, неоглядный мир белых. Растерянность — вот их удел и мой тоже.
Изможденный чернокожий старик Каркоолиоо, оглушенный, потерявший способность изумляться. Глубокий старик лицом к лицу с новым миром, уничтожившим все, чем он жил.
Я передергиваю плечами и ухожу в палатку. Бедняга Чарли, растерянный Чарли, такой же человек, как я.
© D. Stuart, 1973
Перевод Ю. Родман
Западная Австралия, треть континента. Есть где развернуться, есть где расти. Старая дорога — дощатый настил — ведет на побережье Скарборо. Белые дюны, белый песчаный берег; изгибаясь, накатывают валы прибоя, и восточный ветер сдувает с гребня каждой волны холодное облачко брызг. Крутизна Дарлингского хребта, а у подножья, на реке Кэннинг, тихие заводи в тени чайных деревьев, и завитки синего дыма, что поднимался над нашими кострами, — среди лета, после школы, мы пекли в золе картошку. Потаенные ручейки в чаще голубых эвкалиптов — тут, у кого хватало сноровки, можно было поймать саламандру. Уилуна, земля обетованная для безработных в годы кризиса, — там, на руднике, жили и кормились до восьмисот человек. Изнуряющий, знойный, голодный путь на север, от Микаттары к Наллагайну и мраморной гряде Марбл-Бар, и поросшие жесткой колючей травой холмы Пилбары. Запах этой мокрой травы, когда кончается долгая сушь и настает время дождей. Пот и тяжкий труд в стригальнях. Стоянки гуртовщиков, ночные переходы на отличных конях — лучших не сыскать в целом свете, пять месяцев, а то и полгода на перегонном тракте от Берега девяностой мили до Микаттары, откуда уже начинается железная дорога. Джимбелба, промываешь песок в лотке, и на дне вдруг блеснет золото. Верблюжьи караваны, и караваны ослов и огромные повозки, высоко нагруженные тюками шерсти. Темнокожие аборигены — мастера объезжать лошадей, и афганцы, торгующие вразнос всякой всячиной; пустынные заводи под зимним небом, безымянные лагуны, обрамляющие плато Кимберли, там оглушает разноголосый птичий гомон и лани пугливо озираются, сходясь на водопой. Дым душистых смол и сандалового дерева в Бруме — и тучи москитов облепляют тебя, едва дым отнесет ветром.
Читать дальше