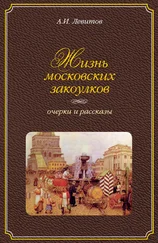— В добрый час.
— И посвящу его вам, — закончил Лурия.
— Зачем? Я его уже не увижу. Ведь он выйдет после 29–го? На всякий случай, если кто‑то придерётся, я вам оставлю завещание.
Он взял мятый лист со стола, помазал языком химический карандаш и начал выводить:
«Я, Шимен Шнер, завещаю свой клад — 3 кило 200 граммов золота — три он написал также прописью — уважаемому мсье Лурия».
И подписался.
— Сейчас только заверю.
Из кармана брюк он достал какую‑то печать и шлёпнул.
— Теперь всё в порядке.
Посреди круглой печати красовался магендавид, по окружности было написано «ШИМЕН ШЕР, 311 ЛЕТ».
Старик взглянул на часы.
— Ах, какая цепочка, какой циферблат, какое время!.. И я должен умереть! — в глазах стояли слёзы.
— Я тоже, — ускопоил его Лурия.
— Вы привыкли, — обиженно сказал Шимен.
Они ещё раз обнялись и Лурия вышел, не оглядываясь.
Он шёл, как в тумане, горло сжимало, слёзы душили его.
Пыль ложилась на лицо, палило солнце и высоко в небе пел жаворонок.
Лурия был так потрясён, что не знал, куда идти.
Он остановился — великий город окружал его.
Навстречу, чуть прихрамывая, шёл один из бывших бессмертных.
— Простите, как пройти к станции? — спросил Лурия.
— Прямо, — ответил тот, — сразу за кладбищем.
— Каким кладбищем? — Лурия вздрогнул.
— Центральным. Остальные далеко.
— У вас есть кладбище? — голос Лурия дрожал.
— Пять, — ответил «бессмертный».
— Разве у вас умирают?!
— У нас самая большая смертность в районе, — сказал прохожий, — и у нас мрут от всего, даже от геморроя.
Последних слов Лурия не слышал, он уже нёсся к харчевне. Шимена в ней не было.
— Рубинчик, — обратился Лурия к трактирщику — а где Шимен?
— Какой Шимен?
— Ну, старик, бородатый еврей.
— Исчез, — сказал трактирщик, — а с чего вы взяли, что он Шимен? Никто не знает, как его зовут, откуда он приходит, куда идет. Никто не знает, кто он, сколько ему лет, одно известно — он никогда не платит. Является сюда раз в год и бредёт дальше. Вечный жид — что с него возьмёшь…
Лурия сел.
— Принесите мне красного вина, — сказал он и протянул Рубинчику бумажку, данную Шименом, — что это за адрес?
— Сумасшедший дом, — ответил трактирщик, — что вы там ищете?
— Дом с крышей в стиле рококо, — ответил Лурия…
А тем временем Шимен со скрипочкой опустился на крышу своей хаты и заиграл щемящую мелодию. Часы его блестели в лучах закатного солнца. Из окна высунулась Нехама.
— Где ты уже спёр часы, ганеф? — спросила она.
Мелодия оборвалась.
— Тебе нравятся? — спросил Шимен, — впервые в жизни, к семидесяти, у меня, наконец, часы.
— Зачем тебе часы, мишуге? — спросила Нехама, — куда ты торопишься?
— Мне семьдесят и у меня часы, — Шимен начал плясать на крыше.
— Ему семьдесят! — вздохнула Нехама, — взглянув в зеркало — тебе можно дать все триста! Откуда у тебя часы, паршивец?!
— От Янкла Дудла, — Шимен вскинул скрипочку, — почему б одному неудачнику не подарить что‑то другому?..
Все смертно. Вечная жизнь суждена
только матери.
Исаак Бабель
Как часто прекрасное — случайно. Однажды по объявлению в газете я снял дачу в приморском поселке, о котором никогда не слышал, где‑то меж двумя мысами, неизвестными мне, как река Брахмапутра.
Я только знал, что один из них называется Чесночный.
— Чесночный? — переспросила Лия. — Наверняка там когда‑то жили евреи.
— Почему, бабушка? — спросил Пума.
— Что, кроме чеснока, у них было? Они жевали хлеб, соль и закусывали чесноком. А на десерт у богатых был лук.
— На десерт?
— После чеснока он кажется сладким. Это у тебя сегодня все есть и ничего не впихнуть, паршивец!
— Если бы мне давали чеснок, — вздохнул Пума.
— Может, ты попросишь еще и лук?!
— Мы разве богатые? — удивился Пума…
Дача была дорогой, непонятно, почему мы сняли именно ее.
— За такую сумму можно снять виллу в Каннах, — заметила Лия.
— Это тоже вилла, — ответил я, — тут ясно написано: «Вилла «Рояль», пять комнат, патио».
— Чесночная, — сказала мама, — ты увидишь! К нашему берегу добро не приплывает — или дерьмо, или треска!
— За двенадцать тысяч — треска?!
— А почему нет? Ты — как твой отец. Он скупал за бешеные деньги всю треску Ленинграда. Он притащил швейцарские часы, сделанные в Томашполе. Американский патефон, оказавшийся ящиком для обуви. Банку иранской икры для тебя, где лежала все та же треска.
Читать дальше
![Александр и Лев Шаргородские Министр любви [cборник рассказов] обложка книги](/books/187569/aleksandr-i-lev-shargorodskie-ministr-lyubvi-cborni-cover.webp)