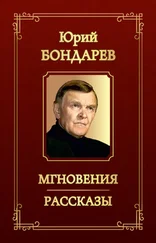Ее лицо, помятое сном, но умело приведенное в порядок, показалось немолодым, усталым, тени под глазами, неуловимая слабость в губах, в тонкой шее, мнилось, открыли ему в это утро какое-то тайное нездоровье Юлии, и он, сразу прощая ей все, негромко проговорил голосом навсегда забывшего размолвку человека:
— Я хочу сказать, Юля, одно: если ты не будешь верить мне, то наша жизнь превратится в дьявольский кошмар. Зачем это?
Она взглянула на него почти со страхом, но сейчас же лицо приняло выражение напряженного безразличия, это стоило ей, вероятно, усилий. Она осторожно отпила глоток кофе (он услышал в тишине звук ее глотка) и заговорила отчужденно:
— У нас пока все должно быть по-прежнему. Я так же буду изображать твою жену. Только не будет одного… Как бы это сказать? Просто я не буду любить тебя. И это освободит нас от многого. Приходит же всему срок. Ты оскорблен вчерашним?
— Я не хотел бы говорить о вчерашнем. И не хотел бы, чтобы от тебя пахло вином. — Он посмотрел на рюмку. — Это уже стало…
Она перебила его с решительностью женщины, не способной шутить:
— А я хотела сказать то, что хотела сказать. Поверь, нам обоим будет легче. Все будет проще. Потом… позже мы можем развестись. Сейчас у меня нет сил. Потерпи… Я первая скажу об этом.
— Все это бессмысленно, Юля.
— Что поделаешь! Вся моя жизнь бессмысленна!
Он увидел морщины страдания на ее лице и, вновь погибая от несчастной жалости к ней, поцеловал ее в пахнущие сладковатым шампунем волосы и вышел.
Через неделю произошел разговор с Ионной Кирилловной. Разговор этот совсем не был «запрограммирован», ибо в эти дни жизнь его с женой текла в положении сознательного перемирия. Он делал вид, что ничего страшного не случилось, он надеялся не на здравый смысл, а на излечивающее время, что должно внести разумное успокоение в этот затянувшийся домашний разлад. Иногда в часы бессонницы, неотступной как наказание, он ворочался в поту и представлял встревоженную его женитьбой мать, какую видел в последний раз, знакомя ее с Юлией, и не мог простить себе, что не застал ее в живых, по срочной телеграмме прилетев в Саратов уже на похороны.
Он боролся с памятью, его томило раздражение против самого себя. Он безысходно сознавал, что все молодое, несбывшееся постепенно утонуло в горько-сладкой отраве так называемого семейного счастья, не отпускавшего его несколько лет, и теперь осталась одна блаженная боль. По-видимому, он не имел права судить Юлию, если бессилен был что-либо изменить в ней и в самом себе.
Нонна Кирилловна пришла вечером (Юлии и сына не было дома), строгим взором осмотрела всю квартиру, распространяя по комнатам запах стойких духов, колючий шелест платья, сшитого из какой то звучной материи. Затем по-хозяйски удобно села в кресло под торшером в его кабинете, забарабанила крепкими мужскими пальцами по подлокотнику, царственно выпрямила полную шею.
— Семейная жизнь — сложнейшая школа, где нет учителей, — заговорила она внушительным грудным голосом. — Я вовсе не собираюсь вас учить, Игорь Мстиславович. И не вижу повода заранее сердиться на меня, коли немножечко коснусь интимных сторон вашей с Юлией жизни. Сядьте, пожалуйста, напротив меня, так лучше будет с вами разговаривать.
— Не вижу повода заранее сердиться на вас, — сказал не без натянутой вежливости Дроздов, садясь в кресло напротив. — Но я и не хотел бы, чтобы вы касались сторон нашей жизни.
Нонна Кирилловна сделала упредительный жест.
— О, нет, я не нарушу никаких пределов деликатности. Моя дочь в порыве ссоры с вами, как она мне призналась, допустила невоспитанность чувства. Она сказала, что ненавидит вас. Экая ангельская откровенность, экая грубость! Это не делает мне чести, я, по всей видимости, плохо ее воспитала. Но ее невоздержанность лишний раз говорит, что Юлия — наивный чистый ребенок, поступает необдуманно, импульсивно а вы, неглупый, опытный человек, поступаете, как бы… как псевдопатриот своей семьи, простите, ради всего святого.
— Я готов слушать вас дальше, — проговорил Дроздов с превышенной заинтересованностью податливого собеседника. — Вы даете нашим отношениям захватывающие определения. Только какова же цель ваших определений и вашего разговора?
Свет от торшера падал на ее маленькую голову, величественную, воронено-черную, со старомодной ниточкой ровного пробора, на ее лицо, смуглое от наложенного тона, с темными усиками над властным ртом, оно было несколько даже печальным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу