И тогда приобретает свой смысл замок, взятый на предохранитель: не ломайте дверь с милицией, она открыта.
Не учим мы детей, как переждать, перетерпеть трудную минуту. Ведь утро и в самом деле было мудренее. В училище к ним относились хорошо, матери вряд ли дали бы произнести ее грязные обвинения, и милиция, конечно, дверей бы не ломала.
Но у них уже не было утра.
Когда я выступала на заводе, мне вдруг показалось, что Элла Степановна сидит в зале и слушает
Эту историю, как не свою. Если бы она в самом деле слышала о происшедшем со стороны, у нее, я убеждена, как и у всех, неизвестная ей мать вызвала бы гнев. Но одно дело решать жизненные задачи отвлеченно и совсем другое — столкнуться с самим собой, обожжённым ревностью, погибающим от той самой судороги сердца. Потому-то мы и говорим о науке жизни, которая научила бы юных: надо уметь перегнить ночь и дожить до утра.
— Пусть меня казнят,— говорит Элла Степановна в гордыне и отчаянии.— Пусть расстреляют! Все равно моего мальчика мне не воскресят.
Ни мальчика, ни девочки.
На могилах Тристана и Изольды, влюбленных, живших в вечной разлуке, выросли кусты терновника и сплелись ветвями. Я не была на кладбище, где похоронены Лена и Борис, но знаю, что на их могиле тоже растут и переплетаются ветви — как знак печали и беды; как предостережение.
Душевная неразвитость или то, что психологи называют нравственной тупостью, когда люди не понимают, не чувствуют, что их слова и поступки невозможны, проявляется в семье самым ужасным образом — и по отношению к детям, и по отношению к старикам. Вот сцена, виденная мной в пригородной электричке.
Борода у деда белая, ничуть не тронутая никотинной желтизной — серебряная борода. И одет он аккуратно: пальто, шапка, суконные ботинки — все это не только добротно, но, как видно, вчера только куплено. Лицо у него славное, и большой нос его со всем вниманием обращается к собеседнику, лишь только тот заговорит.
Собеседников двое, они сидят напротив и под стук колес покойно смотрят в окно на пробегающие снега и елки. А деду, как видно, надо поговорить.
— За географию я не беспокоюсь,— начинает он как бы беспечно и мимоходом, но глаза его тревожны.— Правда, полезных ископаемых Мишка не знает, просто беда для него эти ископаемые.
— Валера подтянет,— коротко отвечает женщина (что-то очень уж коротко).
Дед кивает поспешно, а глаза его становятся все тревожнее.
— Потому я за географию и не беспокоюсь. Но вот математика...
Женщина, не возражая, смотрит в окно.
— Алгебра — это пустяки, — опять заводит дед,— по алгебре он соображает, но вот геометрия...
Разговор не поддерживают, и наступает молчание.
— Да вы не беспокойтесь, папа,— говорит, наконец, женщина, и дед тотчас со всевозможным вниманием (и надеждой?) устремляет свой нос в ее сторону.
— Ты у нас молодец,— бодро подхватывает мужчина, и дед тотчас направляет нос к нему.— Все будет — порядок.
За окном теперь Снегопад. Темнеет. Пошли мелькать фонари, из колпаков своих они сыплют светящийся снег.
— Вот приеду, устроюсь,— бодро-весело говорит дед,— и сразу вам напишу.
— Обязательно напишите, папа,— говорит женщина.
— А придет лето,— продолжает дед,— грибов вам наберу.
Сын с невесткой, глядя в окно, кивают и кивают,
— И насушу, и насолю,— продолжает дед.
Те уже не кивают и не слушают: дед говорит пустое. Его везут в дом для престарелых, где вряд ли будет возможность солить грибы.
Окна уже ничего не показывают, в их глухих стеклах, как в черной воде, отражаются скамейки и лампочки полупустого вагона. Дед все сидит прямо, не сдается (наверное, помнит, что он молодец), а потом приладился к гудящей, дрожащей вагонной стенке — видно, что ему бы сейчас самое время прилечь. Но предстоит еще долгий путь, а там, в интернате, пойдут разные формальности, словом, до отдыха далеко.
Да и сам разговор его, конечно, утомляет и мучит. Ведь как говорится, ежу понятно: дед пытается уве рить сына с невесткой, что может еще пригодиться, а те ему недвусмысленно отвечают, что он им уже не нужен. Он страстно ждет, что они скажут: «Это не надолго, ты скоро вернешься» или «Мы будем часто тебя навещать», а они смотрят в окно и ждут, когда, наконец, доедут.
Но почему, собственно, деда увозят из родного дома (явно им любимого), почему разлучают с родным внуком (тоже явно любимым)? И почему он не бунтует, дед? Почему не ропщет, почему так растерян и сконфужен в то время, как его родственники, напротив, не только ничем не стеснены, но сохраняют совершенное душевное равновесие? Снисходительны даже.
Читать дальше






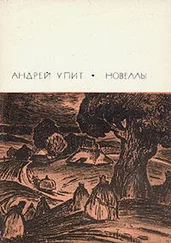


![Ольга Чайковская - Болотные огни [Роман]](/books/424278/olga-chajkovskaya-bolotnye-ogni-roman-thumb.webp)

