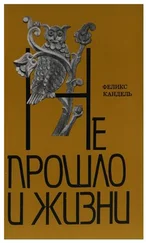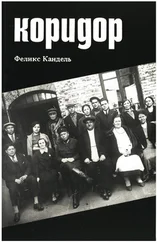Был он потом парализованный, жил как не жил, долежался до пролежней и сказал однажды с удивлением:
– За всю жизнь, – сказал, – не посадил ни одного дерева. Только бумаги перевел – без счета.
Старая хулиганка Фогель была тогда молодой и подолгу разглядывала одряхлевшего Зяму.
Старики ее интересовали.
Старики беспокоили.
В стариках она искала себя, будущую.
– Но я экономил, – сказал Зяма. – Я экономил бумагу. Писал на обороте черновиков. Одно дерево я наверняка сэкономил. Или два. Это всё равно: посадить новое дерево или сэкономить старое. Да, да, – настаивал без уверенности. – Всё равно.
Дождичек покапал напоследок на мертвое лицо.
Факелом взметнулась сирень у забора.
На мраморной глыбище по соседству выбито было понизу клеймо мастерской: "Кабановъ, на Мясницкой".
Соскоблили – не иначе – старую надпись, переделали в который уж раз под нового клиента.
На мраморе процарапали утешением: "Вечно не живут".
В шесть двадцать одну отстукивали молоточки по бронзовой наковаленке, и старая хулиганка Фогель начинала плакать.
– Чего ты опять плачешь? – удивлялась ее мама.
Но она не могла объяснить.
В шесть двадцать одну уходила любимая ее подруга Вера, как сердце рвала надвое, и удержаться не было сил.
Вера прибежала в потемках, под утро, когда соседи еще спали, шушукнулась в коридоре, поцеловала вскользь и убежала суетливо, чтобы больше уже не возвращаться, – в шесть двадцать одну.
Не звонила, не провожала, сюда не писала, – а что?
У Веры муж. Дети. Зять в руководстве. Ей – оставаться.
Старая хулиганка Фогель плакала от злости: за дружбу свою, вывернутую наизнанку, за Веру – любимую подругу, за поцелуй вскользь, в коридоре, за саму себя, идиотку, что понимала Веру и оправдывала.
Может, и она бы не пришла провожать?
Вера была нежная, ласковая, с плавными текучими движениями, как речка, прогретая на плесе, и ее любили серьезные, уважающие себя мужчины, потому что Вере можно было довериться.
До шести часов двадцати одной минуты по московскому времени.
Потом была пауза. До одиннадцати сорока пяти.
Будильники не будили и кукушки не куковали.
Встать. Попить кофейку. Натянуть шорты с кофтенкой. Сбегать в магазин, на почту, в банк и вернуться ко времени.
В одиннадцать сорок пять уходил родной брат Гриша, и надо было при этом присутствовать.
Ненавистник Гринфельд сидел у окна и выглядывал на улице знакомых.
– Ваши-то! – закричал радостно. – Опять обделались! Вот вам американцы чего дадут! Сдохнете, Фогель, без помощи, и все ваши сионисты сдохнут.
– Гринфельд, – сказала на ходу. – Вам же ответ скоро держать, Гринфельд. Экий вы пакостник.
И он захохотал громко, мерзко и полыщенно.
– Запасайте крупу, Фогель. Мыло со спичками. Скоро война будет.
Утро было притихшее. День подступал жаркий. По солнцу уже не стоило ходить, но Фогель предпочитала солнце.
Шел той же дорогой кузнечик Фишер, катил за собой сумку на колесиках.
– Мишу, – сказал. – Подкормить. Завтра ему с утра на базу.
Для Фишера это было привычно –подкармливать Мишу.
Он ездил когда-то к Мише на родительский день, пихал в него сытную домашнюю пищу, а по садику бегала грозная директриса Берта Моисеевна, кричала зычно, тряся подбородками:
– Перекормите – выпишу!
Здесь он тоже ездил к Мише на базу, в начале его службы, и умилялся на ряды машин возле ворот, на расстеленные на травке подстилочки, на груды домашней еды, которую родители скармливали детям.
А те ели без остановки и остатки уволакивали в палатки: дети с винтовками.
Папа у Миши заскучал очень быстро, через пару каких-то лет.
По делам грандиозным. По пространствам немерянным. По жизни удивительной, не чета здешней.
Ныл. Придирался. Цеплялся ко всем. Исподволь выстраивал стройную систему объяснения и оправдания.
– Чего ты скулишь? – говорил ему кузнечик Фишер. – Ты же свободный теперь человек. Не надо никого ругать и ничего не надо оправдывать. Бери билет и уезжай. Вот мой тебе совет.
– Молчи, – сердился тот. – Что ты лезешь со своими советами? Советы дает адвокат. И то за деньги.
Папа уехал. Мама уехала. А Миша остался. И кузнечик Фишер тоже.
Кто-то же должен кормить ребенка, когда он воз-вращается с войны.
– Фишер, – сказала ему Фогель. – Вам идет ермолка.
И он застеснялся.
– Меня спрашивают, – сказал. – Ты зачем надел? А я и не знаю, как объяснить.
– Не надо объяснять, Фишер. Лишнее это дело. Умный не спросит, а глупый не поймет.
Читать дальше
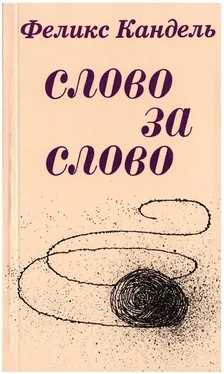




![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)