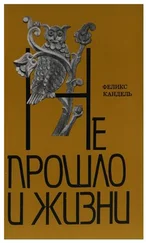Прислушайтесь: звучит похоронная музыка. Приглядитесь: идут вечные процессии. Себя хороним. Себя в себе. Две клячи тащат катафалк: кляча-надежда и кляча-отчаяние. Понурившись, бредут за гробом несбывшиеся мечты, невысказанные мысли, схваченные за глотку эмоции. Сгорел человек. Осыпался горсткой потухших углей. Пепел Клааса стучит в Клаасово сердце. Никому не дано быть самим собой, никому! Пытающиеся будут сломлены. Упорствующие – уничтожены. Изворотливые – загнаны в подполье, в вечное бесприютное странничество и неумолимое самоуничтожение.
А Левушка держится. Левушка цепляется за самого себя. Старается из последних сил. У него только и есть за душой – он сам, которого хочется сохранить, сберечь, удержать в целости. Крошечный, беззащитно упрямый – бесприютно тычется по закоулкам огромного тела, обреченный на пожизненное сопротивление. Стоит задремать и расслабиться, как оболочка начинает разъедать кислотой сомнения, логикой удобного отступления, перспективой блистательного поражения. Оболочка стремится к выживанию любой ценой и потому подсовывает ему ложь-спасение, умиротворение и награду, отсеивает беспокойное и огорчительное, сглаживает острые шероховатости, о которые можно пораниться.
А он, загнанный внутрь себя, глухой, слепой и безрукий, питается крохами со стола чужих чувств. Недоверчиво проверяет, пробует, оценивает и сравнивает. Сколько раз уже обжигался! Сколько раз стонал после этого, забившись в угол, в отчаянии кричал изнутри: "Что там? Что снаружи? Правду! Только правду!.." Но оболочка вытравляет его, беспокойного, неуживчивого, из самого себя. И потому этот человек обречен, вопрос только времени.
Есть на свете такая форма, такое человеческое тело по имени Лев, которое живет себе и живет, совершает предписанные регламентом поступки, марширует в общем ряду со всеми, а внутри него существует в отчаянном одиночестве, бьется насмерть в ежеминутном тихом героизме, затыкает незримые амбразуры, горит на кострах, висит на крестах, стоит у кирпичных стенок, радуется и отчаивается, улыбается и стонет человек по имени Левушка.
4
– Левчик! Какими ветрами?
Левушка поднял голову, взглянул затуманено. Девочки-пираньи чинно ели компот маленькими ложками, а за соседний стол шумно усаживался мужчина с двумя подносами. Большой, рыхлый, неряшливо толстый, с двойным подбородком – жабо. Глаза-маслины, плечи в перхоти, на грубом мясистом носу неожиданно тонкий, подвижный кончик – выразитель эмоций.
– Лев, – поправил Левушка, пристально глядя на мужчину. – Лев Анатольевич.
– Старик! – загремел тот. – Не узнаешь Вадю Горохова?
– Узнаю. Чего ж не узнать?
Вадя Горохов был сволочью. По своей натуре, по существу своему, по внутреннему строению организма, а главное, по состоянию постоянной готовности продать любого, если это нужно, если потребуется, если возникнет намек хоть на малый спрос. Как изящно он это делает, подставляя под удар конкурента! Как элегантно! Талантливая сволочь. Сволочь по призванию.
– Старик, – шумел Горохов, выставляя на стол салат, студень, суп, два вторых, хлеб, пиво, компот. – Сколько ж мы не видались? Годков пять, пожалуй...
– Пожалуй, – сощурился Левушка. – Но тоски я не ощутил.
Горохов громко захохотал, зашлепал губами – мокрыми лягушками, затряс пузом стол.
– Не хохочи, – попросил Левушка. – Тебе же не хочется. Не хочет, – объяснил девочкам, – а смеется.
Вадя Горохов взглянул на них, и глаза его остекленели. Он уже отключился, окаменел, замер в стойке, тягучее – сиропом – желание сочилось из глаз-маслин, и только кончик носа заволновался, зашевелился в нетерпении, выдавая своего хозяина.
– Старик, мы о чем?..
Мотнул головой, прогоняя наваждение, плотоядно крякнул, с ходу навалился на салат:
– Старик, я тебя люблю... Я люблю тебя, старик!
– Он всех любит, – объяснил Левушка девочкам. – Иначе он не может.
Девочки-пираньи глаз не подняли. Аккуратно сплевывали косточки на чайные ложки, рядком складывали на тарелки вокруг рыбьих скелетиков.
– Точно, – подтвердил Горохов. – Вадя Горохов всех любит. Но тебя – особенно.
Вадя Горохов был сволочью, но к Левушке относился хорошо. Даже – очень. Любил его за непохожесть, за полное отличие от самого себя. Любил инстинктивно. Незаплеванным уголком подлой своей души. Удовлетворял подспудную тоску по забытой чести, о которую давно уже вытер ноги. Боже ж ты мой, какая ирония! Нас любят сволочи. Они без нас жить не могут. Мы им, оказывается, очень нужны. Мы необходимы. Когда их станет чересчур много, когда выживут нас отовсюду, они устроят заповедники, заказники, зоологические сады, окружат егерями и научными работниками, возьмут под государственный контроль. Чтобы не вымерли мы, как редкие животные. Чтобы было им кого любить незаплеванным уголком поганой своей души!
Читать дальше
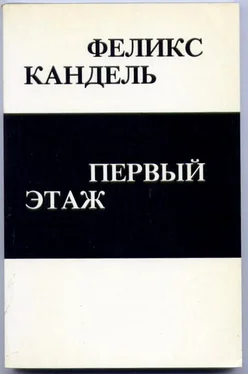




![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)