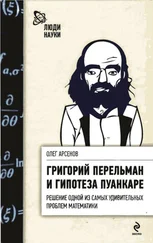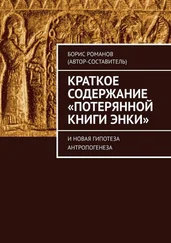Когда Громов пришел в общежитие на Стромынку, было около одиннадцати. В комнате, где жила Валя, слышались голоса. Он постучал, вошел. Первокурсники – девчата и парни – болтали, смеялись. Валя сидела у стола с книжкой, рядом томился Токин. Валя Леонида не заметила: мало ли кто входит?
– Трофимова, к тебе, – сказал кто-то из девчат.
Она увидала, покраснела. Сразу все поняла.
Встала, помедлила секунду, потом решительно подошла к нему, обняла, закинула руки на шею. Он был серьезен, даже строг. Взял обеими руками ее голову, отклонил назад, поцеловал в губы.
– На сборы тебе две минуты. Такси у подъезда, а денег, сама знаешь… Где чемодан? Едем домой.
Собираться помогала вся комната. А когда уходили, девичий голос сказал:
– Вот и улетела наша Валюха! Кто следующий?
– Из твоей исповеди я делаю такие выводы: ты низкопробнейший донжуан, которому многие бросались на шею и который никого не скидывал, – так Елизавета резюмировала его рассказ. – Ну, а теперь последний аккорд: столь же подробно об этой захватчице, о Раисе. Только не подумай, что имею на тебя виды!.. Вовсе нет. Ратую за сестер по несчастью, за старых дев. Холостяк в наши дни подобен зайцу из Подмосковья: на него одного зарится десяток охотниц. И стародевическая солидарность вздергивает меня на дыбы, когда замужние протягивают к холостяку свои лапы. Лично же для меня ты ничто. Надеюсь, это ты понимаешь?
– О да! Настолько хорошо понимаю, что, пожалуй, не буду тебе больше ничего рассказывать.
Леонид сунул в рот папиросу. Казалось бы, следовало привыкнуть к манере разглагольствовать, свойственной Елизавете, но привыкнуть сложно: «стародевическая солидарность», «имею виды», «низкопробнейший донжуан» – все это проглотить трудно. Нужно будет всерьез заняться ее воспитанием!
– Не расскажешь? Как знаешь! Тогда проваливай, кури на крылечке, а я лягу спать. Тебе же советую: не забудь поплакать на сон грядущий о потерянной навеки Райке!
А назавтра:
– Ты в детстве кем хотел стать?
– Биологом.
– Фу, проза! Я мечтала сделаться разведчицей. В тылу врага. И сделалась бы, будь я в войну немного постарше. Представляешь, какой простор для мистификаций?
– О да! – отвечает Громов. – О да! Беда только одна: твой лисий хвост быстро бы примелькался, и немцы бы тебя выловили.
– Святая наивность! Хочешь, черненькой стану? Пожалуй, действительно, стану-ка я черненькой.
Громов накрутил на руку ее косу, потянул легонько, заставляя отклонить назад голову, сказал спокойно:
– Убью! Убью, если покрасишься! Волосы – единственное светлое место во всем твоем облике…
– Четыреста тридцать шесть! – обрадовалась Елизавета. – Четыреста тридцать шесть комплиментов. Не пора ль объясниться в любви!
– Четыреста тридцать шесть? Много… Но я подожду. Тысяча наберется – вернемся к этому вопросу.
– Ну что ж! Намечен определенный рубеж – чудненько! Остается вытягивать из тебя комплименты!
Как всегда, как и каждую ночь, Краев сегодня и спал и не спал – лежал и думал, проваливаясь временами в бездну.
Где-то между тремя и четырьмя выбросил он пустую пачку «Казбека», открыл новую. Густой дым стоял здесь, в кабинете, куда выселили его домашние, ибо всю ночь напролет курил он папиросу за папиросой, роняя на себя недокуренные, когда путались мысли, зажигая их вновь и вновь.
Это был не сон – ожидание рассвета.
И вот уже за окном разжижается тьма, выступают из черноты кажущиеся сейчас серыми красные портьеры на двери, в тон им смотрятся и зеленая обшивка кресел и пестрорядье корешков книг на столе – предрассветная выровненность, сглаженное, нивелированное разноцветье. Оно ему по душе, он и сам не объяснит, почему, но оно ему по душе; зубоскалы из противоположного научного лагеря, непомерно разросшегося, уж, верно, сказали бы: общая серость. Вроде как в законе его, верном для тех, кто смотрит издали, абсурдном для всякого, у кого в руках факты.
Он встает, сует ноги в туфли, отдергивает штору, не зажигая света, садится в кресло возле окна. Папиросы? Вот они, папиросы…
Свинцовая плита реки, свинцовая ширь асфальта, мост, черные башни вдали, снег на крышах, безлюдье, беззвучье – усредненный, упрощенный сном, тишиной город. Сниженное, размеренное дыхание, нивелированные мысли, страсти и пульсы – «тук-тук-тук!», как шаги милиционера внизу, под окном – четкие, тяжелые шаги по тротуару. В голове еще нет полной ясности, дневное, жесткое, путается с ночным, расплывчатым: Громов, его критика на конференции, великий Павлов, примат нервизма, закон, открытый им, Краевым, интегралы и термины, хитросплетение терминов, появившихся в обилии в последние годы: все эти дезоксирибонуклеины и бетамеркаптоэтиламины, милые Громовым, для него же муть, чертовщина, враждебное и отвратное. Идеализм! Папиросы? Вот они, папиросы.
Читать дальше