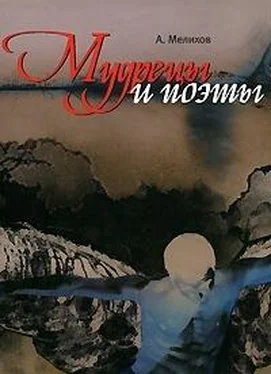Нет, он всегда посочувствует, когда полагает случившееся достойным сочувствия, хотя это бывает нечасто. Но, наверно, ведь и самый жестокий человек тоже не лишен доброго чувства, только не считает нужным его употреблять. В нем есть и доброта, и ум, потому что его реплики часто бывают остроумны, будь они остротами, но до его доброты не докричишься и до ума, следовательно, тоже, потому что ум, направленный на других, включается в действие добротой. Человек вообще начинает размышлять, когда чувствует неудобство своего положения. Ощущений и желаний добирается до него не так много, а с остальными он достиг равновесия – полной убежденности. И его подпирает гвардейская шеренга папок, заключающих избирательные бюллетени знаменитостей, единогласно голосующих за него. И его никогда не убедить, что все они так дружно пляшут под его дудку только потому, что он сам их так подобрал.
В нем оно заметнее – но это же есть во всех – стремление не к истине, а к одному из ее признаков – равновесию или несомненности – душевной гармонии. Сколькие, руководствуясь привычкой , говорят о мировоззрении. Неизменность – наиболее общепризнанный вид гармонии. На нее самое неизменность тоже производит впечатление. Того, кто всегда говорит одно и то же, начинаешь уважать. Отцовской неподвижностью она просто объелась, но и его она иногда подкалывает расхождением его слов с делами, значит, в непоследовательности видит дисгармонию, а последовательность вызывает невольное уважение, хотя многие люди хороши только потому, что у них слова расходятся с делами, быть последовательными им мешает добродушие. Но на них посматриваешь свысока: сам говорит, что ложку надо нести в ухо, а несет в рот. Другое дело, если говорит: в ухо – и несет в ухо. К этому испытываешь почтение. Глупое становится умным, подтвердив свою неизменность серией поступков. Если человек то зол, то добр – это прихоть, а если зол всегда и со всеми – мировоззрение, достойное уважения.
Интересно бы узнать, как двигалась его мысль до остановки и почему остановилась именно там… А наверно, никак не двигалась, все дело не в мысли, а в условных рефлексах. Собаку много раз бьют палкой, и одновременно звонит звонок. От удара она взвизгивает и поджимает хвост. Постепенно палку убирают, и она взвизгивает и поджимает хвост только по звонку. И, наверно, испытывает удовлетворение, поджимая хвост, и раздражение, когда поджать его что-то мешает. И возмущается, когда другие не поджимают. И начинает учить своего щенка, не знавшего палки, правильно поджимать хвост по звонку.
Они продолжали завтракать молча. По выходным она обычно завтракала с удовольствием: наслаждалась, что не надо спешить, но сейчас было не до удовольствий. Чтобы унять себя, она глубоко вздохнула и почувствовала короткую резкую боль в груди, как будто что-то там склеилось, а теперь отклеилось. Кольнуло и прошло, но она сделала невольное движение и поморщилась. Он заметил, и выражение спокойствия и рассудительности сменилось выражением испуга.
– Что с тобой? Сердце?
Перепуганные глаза, губы, оттопыренные, как для свиста, седая щетина – он еще не брился. Господи, до чего его жалко, бедного старика, – когда он небрит, кажется, что ему уже за семьдесят.
– Какое справа сердце… Кольнуло что-то и прошло, – как можно беззаботнее и ласковее ответила она.
Он сразу повеселел. Он сразу верит, что у тебя ничего не болит, хотя бы оно и болело. Хотя бы ты от головной боли – в прошлом году они ее сильно донимали – готова была оторвать и выбросить эту проклятую голову, и была белая как стенка, и глаза у тебя были тоскующие, как у больной собаки. Временами хотелось ответить: ты сам, что ли, не видишь, да я себе места не нахожу, – но она удерживалась и потом всегда была довольна. На него нельзя сердиться, как на глухого, что он не слышит шепота. Разница только та, что глухой может предоставить справку от врача, а ему, бедняге, никто такой справки не даст. Но она ему и без справки верит. Он бы не поверил, а она верит. И сдерживается, только не получается. Но это не значит, что не надо и стараться: так она из ста раз не сдержится один, а то было бы наоборот.
В сущности, он ценил в ней только биологическое и профессиональное начала. Впрочем, биологическое он уважал в ней не в том смысле, что она, мол, тоже человек и, следовательно, может иметь индивидуальные вкусы, как раз наоборот, а лишь в том, что признавал в ней способность заболеть или даже, чего доброго, помереть. В восьмом классе у нее была атака ревматизма, и он до сих пор боялся, как бы не было последствий. Но боялся как-то по-своему: месяцами не вспоминал, не обращал внимания на вещи совершенно недопустимые с точки зрения человека, опасающегося последствий ревматической атаки, и вдруг из-за какого-нибудь пустяка терялся так, что от жалости невозможно было на него смотреть, и так же вдруг успокаивался из-за еще меньшего пустяка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу