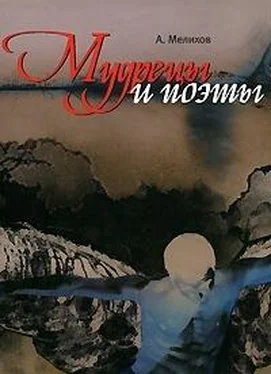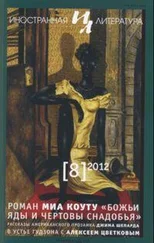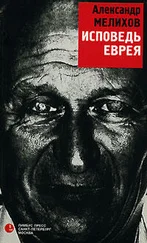Между тем все его считают умным, тонким и деликатным, потому что он много читает и никому не возражает, разве что в том смысле, что жизнь сложна, поэтому трудно решительно осудить кого-нибудь. Это амплуа всем по душе: ах, Борис Дмитриевич, вы каждому найдете оправдание! Он по природе, видимо, неглуп, и оправдания его иногда бывают неожиданны, но все это притворство, – что бы ему не попритворяться и с ней! – а думает он, что ничего там сложного нет, кроме распущенности и уклонения от обязанностей, но сказать вам этого нельзя, да и не мое это дело, только неприятностей наживешь, ведь вы такие закоренелые лодыри, пьяницы, обманщики и распутники, что исправит вас одна могила, вы и слушать не станете, только озлобитесь, так лучше уж кину вам кость, скажу, что у вас есть какие-то сложности и затруднения. Он, так сказать, умен из вежливости. С ней же притворяться он считает излишним, а может быть, и нечестным. Может быть, он не притворяется с ней потому, что считает ее не чем-то отдельным, а частью себя.
Читает он много и целенаправленно, в основном по вопросам морали: долг, совесть, труд, семья, – но интерес его к этим вопросам не означает, что он ищет в них чего-то нового: он как бы готовится к собранию, на котором его мнения будут поставлены на голосование, и делает из книг только те выписки, которые «за». На целые книги он не ссылается, поскольку в них на одной странице бывает «за», а на другой чуть ли не «против» или что-то в этом роде. Он в огромных количествах делает выписки из них и выписки эти содержит в идеальном порядке. Он называет это – отделять золото от примесей. Золотоносные пласты разной щедрости – от Библии до «Крокодила».
Это основное чтение, но есть и побочное: чтение тех, которые «против» или воздержались. Этих он судит строго, хотя сам же считает любые суждения, выходящие за служебные рамки судящего, дерзостью, близкой к распущенности. В побочном чтении он в лучшем случае находит ничтожество, и притом вредное, поскольку оно отбивает вкус к нужному. У лириков он не находит лиризма, у юмористов – юмора, у публицистов – гражданственности, а у моралистов – нравственности.
Новых мнений он, конечно, не приобретает, поскольку выбирает только то, что ему по вкусу, но стилевое влияние выступает явственно. Если у него в речи встречаются разные «и я полагаю, что это нехорошо», «в неприлично обтягивающей одежде», «едят и пьют то, что вкусно» – значит, недавно читал Толстого. Заметно, когда он читает Добролюбова, когда областную газету, а когда Черкасова – это его любимый критик. Он отыскивает и прочитывает каждую черкасовскую статью и после целую неделю говорит с благородной горечью, чеканно и непреклонно, иногда вставляя мрачные сарказмы; непреклонно задиктовывает – только успевай записывать, а то повторять он уже не станет; не расслышал чего-то – пропало, он уже задиктовывает другой абзац: «Нет, да и не может быть» – вот ведь как, знает не только то, что есть и чего нет, но и то, что может быть, а чего не может быть. Никогда не подумала бы, что на свете столько безусловных истин. Черкасова отец воспроизводил лучше всего: как и у Черкасова, основную роль играл у него не смысл, трудноуловимый, но вместе с тем как будто слышанный сотни раз, а интонация, ритм, подбор слов. Смысл, и без того малозаметный, совершенно растаптывался суровой поступью слов: непростительно, нескромно, наставник, неблаговидно, мелодраматическая подтасовка фактов, самокопание, самолюбование, трагикомедия антитворческой индивидуальности, кажущаяся наивность, оборачивающаяся продуманной концепцией, опыт времени и эгоцентрической личности, – поступью, лишь иногда смягчающейся горькой отрадой слов: большой мастер, взыскательный художник, славный пример, крупный талант, уроки классиков, жажда совершенства, трудный и справедливый закон жизни, поучительная драма. Чувствовалось, что он смертельно устал от необходимости быть постоянно беспощадным, но дух его не поколеблен. Отец выписывал из Черкасова и зачитывал ей за обедом лишь немногие афоризмы, но такие, от которых кусок останавливался в горле. Запомнить и повторить их было невозможно, но если попытаться восстановить их по оставшемуся впечатлению, получалось что-то вроде: «Неизмеримо трудно, раскрывая лишенную заданности взаимосвязь явлений, не стереть зыблющейся грани между истиной и правдой, между единым и разобщенным, поскольку право на заблуждение не есть право на ошибку. В соотношении этой проблемы с извечным вопросом о взаимоотношении красоты, истины и добра как раз и прослеживается духовная связь времен и ответственность поколений. В этом и заключается подлинный историзм. Но и факт не самодовлеющ».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу