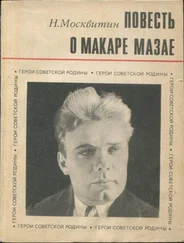Гроб закрыли и забили. И спустили на двух ремнях в яму. Каждый бросил горсть желто-оранжевой земли, и молча, в четыре лопаты, заработали могильщики.
Преломили штыком лопаты цветы.
Но сидеть дома я не могу. Рано утром сажусь на электричку, выхожу за городом и долго еду, выбирая пустые трассы и не очень заботясь о пункте назначения, несколько раз останавливаюсь возле придорожных магазинчиков, делаю привалы в поле, в лесу, подолгу сижу там, рассматривая траву, листья, обламывая тонкие веточки и продолжая их ломать на множество коротких одинаковых кусочков, потом я все это выбрасываю и снова еду. В одном месте мне попадается участок старого асфальта, похожего на булыжную мостовую, из него торчат камни и ехать тяжело, и я еду медленно, не глядя по сторонам.
В этот раз я много думаю о деде и пытаюсь угадать, был ли он в жизни счастлив. И получается, что объективно – был. Пережил войну, избежал репрессий, стал инженером, потом был большим человеком на заводе – то ли главным конструктором, то ли главным технологом, потом перевелся в столицу, дожил почти до девяноста лет, сохранил ум и память и умер на руках родных – это не так уж мало. А субъективно? Последний раз я видел его весной в больнице, заехал после работы. Все тогда кончилось хорошо, но, видимо, он чувствовал, что время его подходит, ждал меня в коридоре возле палаты и, взяв за локоть костлявыми старческими пальцами, повел, шаркая, в пустой холл на диван, голова немного подрагивала, он стиснул мне руку, и так мы сидели молча, и я не разобрал сразу, а потом понял, что он плачет. Всегда подтянутый, в выглаженной, заправленной в темные брюки рубашке, лысоватый, с небольшим брюшком, со строго-веселым взглядом, лукавой улыбкой, крепким рукопожатием; на черно-белых фотографиях – представительный, с орденскими планками. И теперь он плакал на моем плече, как много лет назад, упав с велосипеда, на его плече плакал я.
Вечером я добираюсь в Воскресенск. Электричка уходит из-под носа, и, сидя на перроне, я долго жду следующую. Рядом со мной – отторговавшийся торговец с пустой клетчатой сумкой – парень лет тридцати в жилете со множеством карманов, и женщина, продававшая пирожки, мы с парнем берем у нее два последних, и у нее же он берет две бутылки дешевого пива, тоже последние. Рабочий день окончен.
В тамбуре темно. Велосипед стоит вдоль дверей, и, засунув руки в карманы, я прислонился рядом с ним. Свет из вагона падает к моим ногам, я смотрю перед собой, смотрю за окно, смотрю на велосипед. Длинные перегоны и редкие станции. И думаю, что жизнь моя уже определена и никудышна: учился не тому, работал не там, инженера из меня не получилось и чиновника – тоже. То, чем я сейчас занимаюсь, – это, конечно, временно… если мне дадут уйти… А что потом? Я обленился и отвык от людей. Я уже не знаю, чего хочу, и уже не смогу начать что-то новое сначала, не хватит терпения. И параллельно думал о бывших в моей жизни женщинах и пытался понять, почему ни с кем из них у меня ничего не получилось. А электричка все бежала, и на фоне не до конца потемневшего неба, проносились темные силуэты деревьев. На остановках никто не заходил и не выходил. Ко мне приходит догадка, и я ухмыляюсь: может, я просто не умею жить?
– Хороший у тебя велосипед.
Я вижу перед собой того молодого торговца, он не очень крепок в ногах.
– Да, хороший, – соглашаюсь я и тоже смотрю на велосипед.
– Дорогой…
– Не очень.
Он протягивает мне бутылку пива.
– Давай выпьем за тебя!
По весу в ней еще около половины, я пью, а потом пьет он. Я хочу задать один глупый вопрос, но в это время поезд резко останавливается, двери со стуком открываются, парень осторожно выходит, трескучий голос в динамике, двери схлопываются, свисток, вагон толчком трогается. Зачем он пьет?
Потом к этим мыслям я вернулся на кухне за бутылкой вина. Что-то себе пело радио, немного клонило в сон.
В сентябре еще был туман.
Точнее, смог.
Точнее, дым торфяных пожаров, начавшихся за городом еще в августе и немного пошедших на спад на той неделе, когда не стало деда. Но тогда лишь чувствовался кисловатый привкус. Теперь же я просыпался, во сколько бы ни лег, ровно в восемь от духоты и першения в горле. Закрытые шторы, казалось, мешают притоку воздуха, я вскакивал, отдергивал их, и в окно вливалось молочное видение города. Со своего этажа за застывшими, будто умершими, деревьями я не видел улицы и не видел, идет ли кто по ней или едет. Похожий на вату туман глушил звуки, и хотелось вынуть эту вату из ушей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу