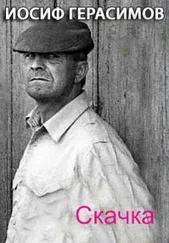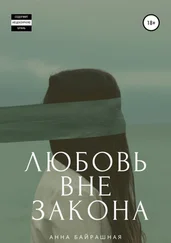— Ну, мой генерал, дела минувшие вроде бы шевелить не следует. Но только не нашему брату. Мы из того минувшего кое-какой золотоносный грунтик извлечь можем и для пользы дела переплавить в соответствующих печках. А ты не морщься… Меня не обойдешь. Я ведь держу в заначке сведения и о твоем броске влево, к некой длинноногой особе. Честно говоря, не думал, что ты можешь крепко бортануться. Э, да что с мужиком в пору отдыха не бывает… Только ты уж переборщил. На настоящую любовь потянуло. На базаре в Кисловодске лучшие букеты цветов скупал, заваливал ими особу, снимавшую неподалеку от санатория отдельную комнатенку. Скромная художница по костюмам из благословенной киностудии «Мосфильм». Однако же страсть генерала была столь велика, что чуть не порвала супружеские путы. Эх, Илья Викторович, дела-то прошлые, а благодарить ты меня должен, что не наворотил беды. Я как узнал… как сигнальчик-то прозвучал, так туда человечка кинул. Тут же и разъяснилось, что художница эта — обычная ночная бабочка, правда, удивительного таланта на внешнюю скромность, на что почтенные мужики особо клюют. Мы ее для всяких романтических натур держали и уж никак не ожидали, что ты-то клюнешь; правда, телесная наживка и впрямь была хороша.
Илья Викторович отпил вина, оно было терпким, приятным, он даже почмокал губами, поправил очки, сделав вид, что всю эту историю, рассказанную Степаном Степановичем, пропустил мимо ушей, хотя на самом деле его серьезно ожгло в душе стыдом. Рассказанное Степаном Степановичем было правдой, случилось это лет десять назад.
В ту пору он переживал полное нетерпение ко всему происходящему, все надоело, он устал, поехал в Кисловодск один, чтобы забыться. Играл в карты, совершал долгие прогулки и тосковал, что жизнь идет под уклон. Такая расслабленность сделала его беззащитным, ввергла в меланхолию, пробудившую потребность в любовных утехах, но легкой связи не хотелось. Тоща-то сероглазая странница, встреченная на прогулке по терренкуру, повела его за собой, и он пошел.
Забыт был весь опыт общения с людьми, он поплыл по течению, чувствуя себя счастливым от бездумного существования и от почти мальчишеского пыла. Это уж потом, когда сероглазая исчезла, а он, пометавшись в поисках, не обнаружил даже следа ее, сообразил, что над ним просто поглумились, но он не знал — кто. Только сейчас это прояснилось. Да и врет Судакевич, что кинулся его спасать, скорее всего, он эту бабочку сам к нему и направил по заданию руководства, потому что, наверное, просочились слухи о его скверном настроении и там, наверху, решили выяснить, что угнетает генерала, занимающегося учеными. Да наплевать на все это! Судакевич ведь его дразнит, и не следует показывать, что его рассказы трогают Илью Викторовича.
Но Судакевич безошибочно оценил его состояние, зная, что если уж Илья Викторович рассердится, то никакого разговора у них не получится; сухопарый старик в очках на носу с горбинкой просто встанет и уйдет, и на том конец. Потому-то Степан Степанович торопливо заговорил:
— Да не сердись, Илья Викторович, я ведь любя. Мало ли что у каждого из нас в заначках хранится… Вон посмотри, вокруг сидят знаменитости. А скольких мы с тобой великими сделали. Я всегда говорил: если надо, дайте мне средненького писаку, а я из него гения сотворю, медалей навешу, весь мир признает, потому что лучшего у нас просто нет. Эх, Илья Викторович, в Писании-то говорится: Иуда продал Христа за тридцать сребреников. А у наших клиентов сребреников не водилось, и в казне тоже. За последний грош, бывало, продавались. У Осипа Мандельштама — опальный поэт, а замечательный, такие стишки есть: я не хочу средь юношей тепличных разменивать последний грош души… А они меняли, да с охотой. Мы из них людей делали, а не они нас. Про нашего брата чего только сейчас не пишут, но нам чужие грехи брать на себя не следует, мы ковали знаменитостей, расчищали им дорогу. Только и всего. Сам слышал, как Юрий Владимирович высказывался: сознание материально, стало быть, поддается управлению. А управлять надо не пыточными методами, а покровительством и продвижением. Уверовав в свое величие, и бездарь обретет осанку человека с мировым именем. Тогда его начнут почитать за такого не только внутри отечества, а и за рубежом. Между прочим, там престиж высоко ценится. Они ведь к себе на фестивали, да и другие сборища не каких-нибудь опальных, а именно всяких народных да лауреатных приглашали. Юрий Владимирович ведь правильно внушал: мы политические воины партии. И те, кто от нас едет туда, на передний край, — ученый он или писатель, — наш посланец, а стало быть, наш борец. Сейчас такое и не упомянешь. Забьют. А ведь все правда. Это, конечно, Пастернак себе позволить мог: мол, позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Так потому его и в дурной пахучей жидкости вывозили, а кроме прочего, он и в самом деле гением был. А вот когда балбес себя Пастернаком возомнит, то его купить ничего не стоит, а не продастся — поправить мозги пошлют, и все дела. Но это уж не наших рук дело, я в такое не влезал, хотя кое-что организовывать приходилось. У нас с тобой направление одно было: делать из дерьма конфетки, пардон. Делали.
Читать дальше