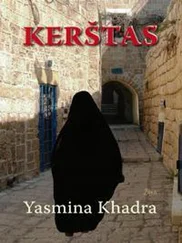Джамиль просит у меня еще сигарету.
— Ну и облом! — сокрушается он. — Я в Наблусе никого не знаю. Сосед приглашает нас зайти и отдохнуть.
— Нет, спасибо, — говорю я. — Мы торопимся.
Джамиль пытается обдумать ситуацию, но досада сбивает его с толку. Присев на корточки перед домом брата, он нервно курит, сжав челюсти.
Потом прыжком поднимается на ноги.
— Что будем делать? — говорит он. — Я не могу тут торчать. Мне надо в Рамаллу, машину вернуть.
Я тоже раздражен. Халил был моей единственной зацепкой. Мне удалось выяснить, что Адель в последнее время жил у него. Я надеялся, что смогу выйти на него через Халила.
Халил, Джамиль и я — двоюродные братья. Первый на десять лет старше меня, и я его мало знаю, а вот с Джамилем мы в отрочестве были очень близки. В последнее время мы редко виделись, уж слишком разные у нас профессии: я тель-авивский хирург, он сопровождает караваны грузовиков из Рамаллы и обратно, и все-таки, когда ему случалось бывать в моих краях, он обычно заходил в гости. Это добродушный отец семейства, сердечный и бескорыстный. Он гордится мной и с неизменной нежностью вспоминает наши детские шалости и тайны. Когда я известил его о своем приезде, он тут же попросил у хозяина отпуск, понимая, что может мне понадобиться. Он знает про Сихем. Ясер рассказал ему о моем наделавшем шуму пребывании в Вифлееме, предупредив, что я, возможно, завербован израильскими спецслужбами. Джамиль не пожелал ничего слушать. Он пригрозил, что порвет со мной отношения, если я остановлюсь не у него, а где-то еще.
В Рамалле я провел две ночи: автослесарь никак не мог починить мою машину. В итоге Джамилю пришлось идти еще к одному родственнику и просить у него машину с условием вернуть ее до вечера. Он рассчитывал, что оставит меня у Халила и тут же поедет назад.
— Тут есть гостиница? — спрашиваю я соседа.
— Конечно есть, но мест может не оказаться — из-за журналистов. Если хотите подождать Халила у меня — пожалуйста, не обеспокоите. У доброго мусульманина всегда найдется свободная постель.
— Спасибо, — говорю я. — Как-нибудь разберемся.
Нам удается найти комнату в каком-то трактире, неподалеку от дома Халила. Портье просит меня заплатить вперед, после чего провожает на второй этаж и открывает передо мной дверь клетушки с убогой кроватью, колченогим ночным столиком и металлическим стулом. Показав мне туалет в конце коридора и запасный выход — что полезно во многих отношениях, — он предоставляет меня моей судьбе. Джамиль ждет внизу, в холле. Я опускаю сумку на стул и открываю окно, из которого виден центр города. Далеко-далеко ватаги мальчишек швыряют камни в израильские танки, и выстрелы разносят их тела в клочья; белесый дымок от гранат со слезоточивым газом расползается по улицам, где пыли по колено; толпа собирается вокруг тела, только что рухнувшего на землю… Я закрываю окно и спускаюсь на первый этаж к Джамилю. Два журналиста в расстегнутых на грани приличия рубашках спят на диване; вокруг сложена аппаратура. Портье говорит, что в глубине холла, справа, есть небольшой бар — на тот случай, если мы хотим выпить или перекусить. Джамиль просит, чтобы я отпустил его в Рамаллу.
— Я сейчас зайду к Халилу и оставлю соседу адрес гостиницы, чтобы брат тебя нашел, как только вернется.
— Отлично. Я не буду никуда выходить. Да что-то и не вижу, где тут гулять.
— Правильно, сиди в номере и жди, когда за тобой придут. Халил обязательно приедет сегодня, в крайнем случае — завтра. Он никогда не бросает дом без присмотра надолго.
Он крепко обнимает меня.
— Не делай глупостей, Амин.
Расставшись с Джамилем, я иду в бар покурить и выпить чашку кофе. Вскоре сюда вваливаются обвешанные оружием юноши в бронежилетах, с зелеными платками на головах. Они располагаются в углу; их окружают журналисты французского телевидения. Самый молодой из ополченцев, подойдя ко мне, говорит, что у них сейчас будут брать интервью, и вежливо предлагает мне удалиться.
Я поднимаюсь в номер и снова открываю окно с видом на театр военных действий. Сердце мое сжимается. Джанин… В годы моего детства это был большой город. Земли нашего племени располагались километрах в тридцати, и я часто ездил сюда с отцом: здесь он пытался сбыть свои картины подозрительным торговцам предметами искусства. Тогда Джанин казался мне загадочным, как Вавилон, и мне нравилось думать, будто циновки перед дверями — это ковры-самолеты. Затем, когда переходный возраст сосредоточил мое внимание на плавной женской походке, я стал часто бывать здесь один, как взрослый. Джанин был городом, который придумали падшие ангелы: у него были замашки разросшейся деревни, упоенью подражающей большим городам; его вечная сутолока напоминала базар в день праздника Рамадан; в лавках, похожих на пещеры Али-Бабы, сверкали безделушки, разгоняя сумрак нищеты; мальчишки на грязных, дурно пахнущих улицах казались босоногими принцами. Была в нем и живописность, которая в той, прежней жизни властно влекла паломников, и запах хлеба — нигде больше я такого не вдыхал, и бойкое добродушие, не изменявшее ему даже в бездне неурядиц… Куда делось все то, что составляло его обаяние, его неповторимый облик, что делало его дочерей, и стыдливых, и бесстыдных, равно неотразимыми, а старикам придавало почтенный вид, сколь бы ни был невыносим их характер? Царство абсурда высосало жизнь из всего, даже из детских лиц. Все померкло в тлетворной серой дымке. Словно стоишь в каком-то Богом забытом углу чистилища, где бродят дряблые души, распавшиеся на куски существа, полупризраки-полугрешники, завязшие в пороке, как мухи в капле лака: их лица разложились, глаза закатились, обращенный в ночь взгляд так безысходно несчастен, что не просветлел бы и от лучей великого солнца Ас-Самиры. [2] Ас-Самира (Самария) — историческая область Израиля; г. Самария в IX–VIII вв. до н. э. был столицей Израильского царства. В настоящее время — территория Израиля.
Читать дальше

![Ясмина Сапфир - Охотница и чудовище [СИ]](/books/35157/yasmina-sapfir-ohotnica-i-chudoviche-si-thumb.webp)