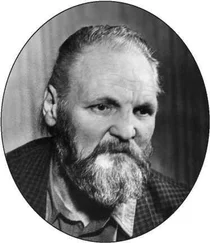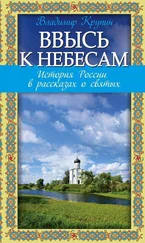Брел от мамы к отцу по ущельям и хребтам замерзшей «и
Утопии и псе слышалась песня, передавали по радио: «… за трон м глазки голубые всю-то я вселенную отдам». Вселенная — значит вселение. Откуда? Кем? Но думалось о силе любви. «Всю-то я вселенную проехал, нигде милой не нашел. Я в Россию воротился, сердцу слышится привет». Всю Вселенную, вот наш размах. И еще, из «Муромской дороги»: «… я ль виноват, что тебя, ненаглядную, больше, чем душу, люблю». Это после того, как погублены другие души, но нет вины, не виноват за любовь. Да, так любить, как любит мша кровь…
Целую, милая. Кланяюсь теоретически за сто часов до встреча.
Р. S. А сейчас в редакции летучка, и второй зам, выступая с пафосом, заявляет: «Повторял и повторяю, что пафос утверждения может быть выражен через отрицание…» Так-то. А мой шеф, якобы споря с ним, говорит о фундаментальных проникновениях в современность, а ответственный секретарь, бывший машинист завалочной машины, грозит тем, что никто никого не держит…
Это я к тому, что меня не держат, какое же ликование должно быть в словах «прошу освободить меня», то есть сделать свободным.
Да, если такой силы достигает обычная, земная любовь мужчины к женщине, доступная всем и даваемая любому, если она дает столько энергии, страдания, горя, радости, безысходности, ликования, печали, озарений, то сколь же велика должна быть любовь духовная, любовь без ожидания взаимности, любовь, в которой есть только отдача сокрушенной души, ах как бы это понять!
Помню, в аэропорту я пытался помочь глухонемому. Писал ему: «Тебе деньги нужны?» Он мотал головой: нет. Но помощи какой-то ждал. Тогда я написал в блокноте: «Ты куда летишь?» Он взял ручку и написал: «На все стороны».
Еще помню мужчину, который схватил меня за рукав в Москве, недалеко от Третьяковки, он лихорадочно стал говорить, что кровь и хлеб не должны быть совмещены, что хлеб не есть тело, что вино не есть кровь, что это позднейшие искажения. Я не согласился, он не согласился, он кричал, что ему страшно за нас, что у него есть преимущество — он умрет быстрее, что еще свидимся и т. д.
Как-то все сейчас проходит предо мной. Каждого, видимо, посещает это чувство вины, или нет? Что бы я ни вспомнил — кругом виноват.
И вообще, если быть честным до конца, большая часть моего сетования на себя идет от комплекса оглядки на авторитеты. Они-то много ли бы наработали, если б самоедствовали? Кто мне не дает писать правду-матку? Какие чиновники? Писал же Твардовский Быкову в минуты, трудные для Быкова: «Все минется, правда останется». Так и вышло. Помнишь, мы были в мастерской художника Х., помнишь его брюзжание, что Г-в — спекулянт, плохо рисует и т. п., что эксплуатирует святые темы истории России и т. п. Но, думаю я, кто же ему-то самому не дает писать на те же темы. Пиши! Пиши лучше, это единственная возможная форма борьбы за свои убеждения…
Но я бы не смог жить, как старуха, о которой сейчас расскажу. Мне надо было, чтоб обо мне знали, чтоб я был на виду, и я этого добился, и что? И вот если бы я, теперешний, приехал в ту школу, в которой мальчик хочет быть дирижером, и была бы встреча с ним, то что? Этот мальчик думал бы, что дядя чего-то добился? Да, о старухе.
Мы заехали к ней, как-то шумно хлопали двери, громко говорили, или мне это сейчас кажется, дело в другом. «Ну, бабуся, жди письма!» — воскликнул один из нас. «Как его ждать-то, — засмеялась она, — у меня и ящика-то почтового нет». Мы осеклись. Как? «Да так, некому писать, все примерли». Тогда кто-то предложил: «Прибей, бабуся, мы напишем». — «Зачем? Когда вспомните, вот мне и весточка», — ответила она.
Все это видел я, грешный.
Вот и мой сороковой день здесь, то есть он завтра, сейчас поздний вечер. Сидел, перебирал завалы фотографий. Почему-то захотелось разделить умерших и живых. Но они часто вместе на общих снимках. Еще думал о разбросанности родни по стране. Началось с дедушек. Они уже были стронуты с места и похоронены в разных местах, не там, где родились. Думаю, если объехать родные могилы, не сейчас, лет через сорок, или ближе, в двухтысячном году, то задача одному будет не под силу. Родня стала громадной: из глубины пришли Грудцыны, Кожевниковы, Смышляевы, Ивановы, потом соединялись тоже с древними Напольских, Чераневыми, Ворожцовыми, Корепановыми, Шалагиновыми, Мальцевыми, Нелюбиными, Гущеваровыми, Пересторониными, и еще родня: Шумихины, Бронниковы, Овечкины, Стога ковы, Касьяновы, Голубовы, Шмыковы, но это я только по памяти.
Читать дальше