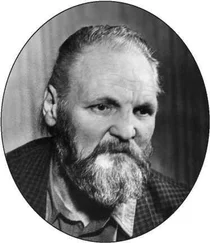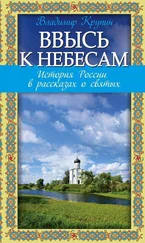— Шабаш! — крикнула старшая, поглядев на часы.
И они ушли. Дождь хлынул. А что стоило всем нам скопнить сено, там на всех полчаса работы, ведь пропадет. Нет, никто не пошевелился.
Поднимал мерзлые колосья, шелушил, отвеивал полову. Набрал горсточку и лег на солому. А солнышко разошлось вовсю, и поле, эти бесконечные белые полосы подрезанных колосьев, стало темнеть. Я закрыл глаза, и их залило жарким малиновым зноем. Кажется, даже задремал, согревшись. Очнулся, глаза открыл — черным черно. И зерна в ладони черные, как из пожара. Потом глаза привыкли — желтое поле, иней сошел, далеко по опушкам рябины.
Оглянулся на поселок — весь в дымящих трубах. Это кочегарки, их два или три десятка, поселок большой. В каждую нужно четверых кочегаров. Уголь плохой, много руды, пыльный. Я заходил в больничную кочегарку — ад, А зашел, узнав, что недавно хирург набросился на кочегара, так как двое больных из-за холода схватили простуду после операции.
Ты не думай, что я весь в печали, нет, это от больницы в так ведь что-то делаю, и немало, «признаюсь тебе, душа моя, что я здесь пишу, как давно не писал»: об уборке, о ферме, о хлебозаводе, острый сигнал, лирические миниатюры, вот эти письма.
Маме не лучше и не лучше. Сегодня еле вышла, постояли в коридоре. Стесняясь своего состояния, она рассказала вдруг, может, оттого, что провели перевязанного парня, вспомнила, как весной сорок второго к ним привезли раненых.
— Я тогда у сестры жила. С тобой, тебе еще году не было. И вот говорят: раненых привезут. Быть не быть — надо идти. А куда тебя? Решила, маме отомчу. Три кило-метра. Дождь идет. И никто не отговорил. Закрыла тебя, сама босиком, да бегом. Прибежала к маме: на, водись, мы пойдем раненых встречать. И бегом обратно. Потом на пристань, в Дмитриевку. И ничего не случилось, ничем не заболела. Да сколь помогали там, совсем к ночи вернулись, и я ведь не вытерпела, ночью к тебе побежала, а дождь безвыходно шел. И ничего.
Сегодня перед редакцией (своей) я отгородился болезнью матери. Она начинает говорить, чтоб я ехал, что дети и ты соскучились, но сама плоха, я вижу, что это хорошо, что я здесь. И мне — хотя печальный повод приезда, а так много хорошего. Например, где бы еще я мог так услышать Девятую симфонию Бетховена, «К радости». Дирижер Федосеев. Поленья в печи тихонько трещали, а радио на полный звук. Сидел, и родные лица проходили чередой. Сами, без усилий, вперемешку с умершими, ведь такая музыка не только для ушей, для души. Вспомнился вдруг. Володя Барабанов, грузчик издательства. Он умер от цирроза печени. Смеялся всегда: «Поговорим по душам? А может, по ушам?» И отца, хотя он рядом, вспоминаю давнего. Многое ушло из него, как и из меня уходит, семью нашу вспоминал, дружбу, стенгазету «Семья», географически шли воспоминания: Север, Мурманск, Ленинград, Вологда, Кострома, Владимир, Тула, Волгоград, Крым, потом Урал, потом Сибирь, как-то наплывами через лица шли обрывки голосов, крохотный намек в мелодии вызвал другие звуки, они теснились, тушевались главной мелодией. А сейчас заставь вспомнить — не сумею.
Пришли газеты. Дали подряд, и дали под фамилией, а ведь чуть в ногах не валялся, просил псевдонима. Теперь уж остыл. Если не хотел ставить фамилию, писал бы лучше, а написал бы лучше, Обрезали бы. Какая ложь в самой тональности очерков, в их бодрости. «Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?» Точно, падаешь, нет ноши тяжелей.
Снова ездил в Святицу, уже с другими. Возил порази» тельный шофер, он часто выпускал руль, когда руки становились нужны для жестикуляции или для держания стакана и закуски. Машина наша, смирившись, видимо, давно с хозяином, послушно мчала нас. Секрет прост, шофер, успокаивая, открыл его: «По колее идет».
И опять в Святице это очарование бес крайностью, цветущей к осени ольхой, опять развалины и роспись на стенах.
Еще из новостей — баня. Там Четверо красавцев, молодых отцов, мыли в больших тазах четырех сыночков. Поставив, намыливали им светлые головенки.
Опять больница. Мой старик партизанит вовсю: стучит костылем на медсестер, юмор у него становится садистским. Идет санитарка с бельевой веревкой, ей от него вопрос: «Чего, давиться пошла, крючок ищешь?» Про угоревшего в бане до смерти мужика: «Сам обмылся, не захотел даже после смерти бабам довериться».
Еще новость: взбодривши кровь воспоминаний, полез я за юношескими дневниками и опытами письма. Увы! Все они плюс учебники сданы отцом, как Он говорит, в номенклатуру. Я дернулся переживать, а потом сел и подумал: так и надо. Еще их не хватало перечитывать. Было только для себя, а видеть, как щенок учится плавать, — кому это надо?
Читать дальше