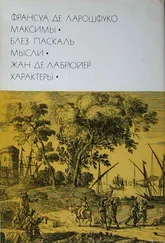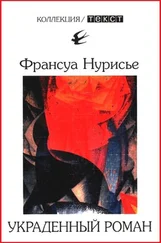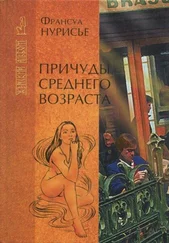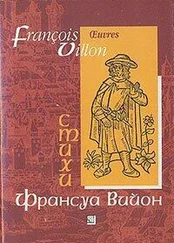Вот уж что не позволяло составить лестное представление о мужчинах, так это картина, которая то и дело возникала у меня перед глазами: шестеро развязных, хвастливых, ленивых и прожорливых мужчин, способных каждый вечер обмениваться шипящими словами по поводу Социалистической партии или мэра Парижа. На нашей дружбе из-за этого останутся рубцы, и я не уверена, что, представься случай, секстет оказался бы способен собраться вновь, чтобы произвести на свет третью часть сериала.
Реми вернулся из Германии, где он в течение десяти дней пел песни, к восьми из которых слова были написаны мной (он написал музыку к тем моим стихотворениям, что положил в карман на террасе кафе в Сомюре), и я работаю, как каторжная. Мамаша Леонелли заявила, будто знает самую лучшую в Париже преподавательницу пения: довоенная певица времен англо-бурской войны, если не старше, усатая полька, которая живет на первом этаже одного аварийного особняка в Марэ. Я думала, что врет, оказалось — правда. Реми испытывает перед усатой благоговейный трепет и он «никогда бы не осмелился попросить ее взяться за тебя». Так вот, она взялась. Я хожу три раза в неделю на улицу Жофруа-Ланье, где меня пытают. Я люблю учебу, но эта уж чересчур трудна. Полька между двумя сигаретами, сидя с полуприкрытыми глазами, начинает смотреть на меня чуть менее жестоко. Ей сказали, что я пишу песни. «Ты никогда не сможешь их петь», — заявила она. Лишь бы не услышал ее Фаради, с которым Реми повел меня обедать, отгородив от него своим телом. Маленький человечек оказался настоящим людоедом. Несмотря на бдительность Реми, мне стоило большого труда распутать мою ногу и ногу людоеда, который обвил ее, как плотоядный плющ. Господи! В кафе я вернула бедную затекшую ногу к жизни и таким образом наше дело было сделано: первую мою пластинку запишут в декабре. Реми пришлось пообещать аккомпанировать мне на пианино.
Как было не закружиться моей голове? Я ставлю свои условия для съемок «Замка», будущих его серий. «Побереги себя для песен», — повторяет мне Реми. Жизель, изначально уверенная в гениальности своей дочери, единственная, кто не удивляется. Лично же я удивляюсь с утра до вечера и с вечера до утра (так как сплю все хуже и хуже: нервы) и сама себе даю обещания: стать «настоящей профессионалкой» (пристрастие этой среды к очковтирательству), не впадая ни в серьезность, ни в сволочизм. Стоит выползти из нищеты, как тебя начинают домогаться, искушать, торопить, соблазнять, и надо научиться говорить «нет». Отказ делает путь к карьере короче. Жос говорил мне это по поводу литературы, но я поняла его, только когда сама испытала все на практике. Я восхищалась Реми, потому что он ведет себя одновременно и непринужденно, и твердо, все время находится на виду, а в то же время в душу никого не пускает. Как ему это удается? Объяснение нужно, наверное, искать где-то на полях, на лужайке, на которой резвятся Вольтер и Руссо. Тротуар и садик на улице Гамбетта в Ванве, департамент О-де-Сен, очевидно, не обладали подобными воспитательными достоинствами. Мне нужно учиться всему тому, что Реми знает с рождения. Я почувствовала это во время исторической первой встречи Форнеро-Кардонель, настолько удачной, что я чувствовала себя почти лишней. Мы к этому еще вернемся. Я стараюсь навести порядок в этой гонке, в которую оказалась втянутой. Мне удается во время этих нескончаемых выматывающих меня бессонниц держаться на расстоянии от депрессии, прибираясь в самой себе. Пожалуй, лучшего слова не найти. Я выколачиваю пыль из всего, что в этом нуждается, и избавляюсь от старья во мне. Для этого нужен решительный характер. За несколько дней я выкинула нескольких побитых молью подруг и трех возникших из небытия представителей другого пола. В помойку и электрическую кофеварку! С глаз моих долой Элизабет с мягким сердцем. Когда Реми звонит ко мне в дверь (три раза, это наш сигнал, с тех пор, как Фаради как-то днем попытался меня изнасиловать), мне хочется, чтобы ему открыла очищенная от мусора личность. Поскольку мне трудно утверждать, что у меня не было прошлого — Реми догадывается, что я достаточно поплавала по бурным морям, — я дарю ему причесанное, выскобленное, ясное настоящее. Не столько для того, чтобы доставить ему удовольствие и обмануть его, сколько для того, чтобы придать себе храбрости любить его. Я перелистываю мои лучшие страницы, я мысленно рисую самые лестные свои образы, а остальное перечеркиваю и рву. Я рассказала Реми о Гандюмасе, пожалуй, больше, чем следовало, и придав ему больше значительности, чем у него было, потому что смерть придает траханью некоторое благородство и прижигает ревность. О Жерлье — могила! как говорит Жос (или Пруст? или кто-то у Пруста?..) Жерлье бродит вокруг меня, патрулирует, наблюдает за мной. Он считает, что создал меня, что был у истоков всех этих удач, которые струятся по мне последние два года, и считает, что я поблагодарила его недостаточно нежно. Он подозревает, что позволил мне отойти слишком далеко от себя и что теперь-то я вряд ли ему поддамся. Еще шесть месяцев назад я бы не стала закрывать дверь на крючок. А нынче я уже не отвечаю на его звонки в дверь. Неблагодарная? Ну нет, все оплачено вперед. Вспомни-ка оранжерею директора лицея…
Читать дальше