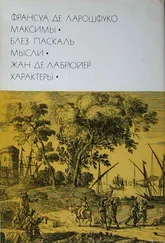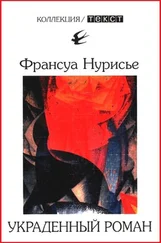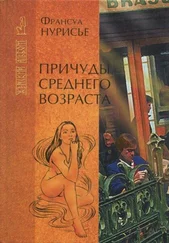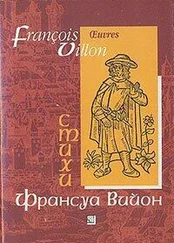Все эти профессиональные конфликты, перетягивание каната между командой и руководством, старые лисы и молодые волки, дельцы и «художники» — неужели все это было просто суетой? Пустым изнашиванием сердца в этих административных баталиях? Почему он решил, что схватки вокруг книг обладают высшей, более благородной сущностью, чем дела в сфере производства железяк или в банковской сфере? Торговля иллюзиями ничем не отличается от любой другой торговли. В этом деле с «Замком» он повел себя как глуповатый идеалист. Как «добрая душа»?
«Просто во мне тогда накопилась усталость», — решил он.
Было ли это достаточным объяснением? Он подумал о Риго, о Бретонне, о д'Антэне, о Делькруа, о Сильвене, о всех тех, кто доверял ему, кто его поддерживал, даже Колетт: что все они «добрые души»? Или тонкие аналитики? Они знали, что хорошая литература в конечном счете всегда становится выгодным делом, в то время как погоня за читателем оборачивается свинством. Таково было жизненное кредо Жоса. Он был неправ? Ему никак не удавалось пожалеть о проигранной битве.
Жос протянул руку и взял в шкафу, там, где знал, что их найдет, бутылку и стакан. Он часто приходил выпить с Ланглуа и его ассистентками, когда тираж книги переваливал двадцатипятитысячный или пятидесятитысячный рубеж. Ланглуа любил отмечать такого рода события. Луветта просовывала голову в дверь «Алькова»: «Они собираются у Ланглуа…», и Жос вставал, счастливый от того, что его оторвали, и от того, что Издательство живет своей собственной жизнью, вибрирует, играет в ту же игру, что и он. Он налил себе полный стакан, выпил его. Этот использованный стакан, оставленный на столе, вызовет завтра недоумение у секретарши.
«Почему, — спросил себя Жос, — большой капитал кажется менее наивным, менее грязным, чем небольшие обороты в нашем деле?» Он называл «большим капиталом» капитал банка, крупные махинации в недвижимости, нефтяной промышленности, все то, что заставляет людей мечтать. Скромные бумажные миллионы уже никого не заставляют мечтать. Даже «Замок», «золотая жила», был всего лишь пустячком по сравнению со спекуляциями, которыми жил «Евробук». «Я совершил самоубийство из-за пустяка», — подумал Жос. И это было правдой. И все-таки не совсем правдой. Он посмотрел вокруг себя: двадцать пять лет жизни прошли с этими стенами в качестве горизонта, с этими цветными обложками вместо иллюстраций, в погоне за химерами. «Чудная жизнь, ничего не скажешь!» А сегодня пенсия директора агентства, скромного банка и потерянные друзья… «Кстати, мои друзья, время подумать о них…»
Жос тяжело поднялся, поставил бутылку на место и вернулся к письменному столу Брютиже. Желтый утенок качался на конце цепочки. Брютиже не питал страсти к украшательству: письменный стол, за которым он проводил по десять часов в день, не показался бы экзотическим ни одному нотариальному служащему. Только кипы рукописей, громоздящиеся повсюду, даже на полу, показывали, какому виду деятельности здесь предаются. Застарелый запах табака, даже после трех дней выходных, продолжал упорно держаться. Чувство неловкости у Жоса возросло до такой степени, что он заколебался: а ради чего? Он почти рассеянно вытаскивал ящики стола. Ни один не был заперт. Что же в сущности он искал? Он перебирал конверты, кругляши упаковочной ленты, коробки кнопок и таблеток от кашля, пока не добрался до коробки, в которой изначально были, наверное, шоколадные конфеты к Рождеству. На крышке было написано его, Жоса, имя и дата: «май 1983-го года». Брютиже всегда был педантичен. С первого взгляда было видно, что там лежит около сотни открыток, писем, несколько телеграмм. Это была небольшая связка верности, в общем довольно приличная. Сверху несколько писем были скреплены скрепкой, вместе со списком фамилий, одни из которых были зачеркнуты, другие — помечены крестиком. «Самые пылкие…», — подумалось Жосу. Все было ясно. Он взглянул на список, на письма и пролистал связку, не извлекая ее из коробки. «Слишком поздно», — подумал он снова.
Сидя в кресле Брютиже, он поднял взгляд на этот бумажный пейзаж, на плохо оформленные фотографии, на этот маленький мир пыли и слов, которым ограничивался горизонт человека, предавшего его: «И он тоже…» Он закрыл коробку, взял ее под мышку и вышел. На лестнице летняя жара усиливала запах влажной штукатурки. На улице свет ослеплял. Жос остановился, заколебавшись. Развернулся, вновь поднялся на третий этаж, дошел до кабинета Брютиже, положил на место коробку с соболезнованиями и навел подобие порядка в ящике. На этот раз он закрыл дверь кабинета на ключ и отнес ключ с желтым утенком в комнату святой Терезы, положил его между таблетками магнезии и щеткой для волос. Когда он вновь очутился во дворе, его лицо блестело от пота, дыхание было прерывистым. Он слишком быстро поднимался и спускался по лестнице, слишком быстро бегал по коридорам. Он ослабил галстук, потом, подумав, снял его и положил в карман. Оттуда, где он находился, на третьей ступеньке крыльца, он мог разглядеть над решеткой сада окна квартиры на улице Сены. Гостиная, спальня.
Читать дальше