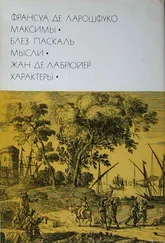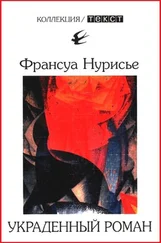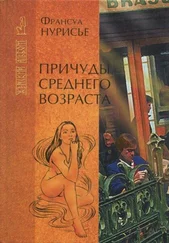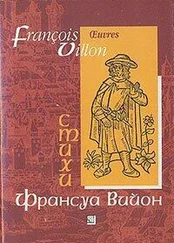От Сета до Бокера, от Тараскона до Драгиньяна в течение десяти дней я прочесывал эту старую землю, на которой лето рассеивает свою паршу. Гостиницы переполнены. Я нахожу лишь случайные комнаты в частных домах, где-нибудь на отшибе или по страшно высоким ценам. (На такие меня еще недолго хватит.) В Вальдигьере, в доме, который на протяжении длительного времени принадлежал Гевенешу и который он продал, устроили гостиницу, «крепость-отель», как они это называют, который должен более или менее походить на твой замок: люди кино (походить на которых очень хочется телевизионщикам) просто без ума от галерей с бойницами и фальшивых семейных портретов. Едва заметив благородные стены, я приготовился было, как обычно, развернуться, как вдруг обратил внимание на надпись в форме экю, висевшую над входом. Я приблизился. Под каменными деревьями были припаркованы многочисленные машины. Да, осталась «одна квартира», и меня провели до комнаты в староиндийском стиле, перенасыщенной гипсовыми украшениями, где мы с Клод спали десять лет тому назад… Я опешил, неспособный даже поднять свою сумку, пробормотать извинения и сбежать. Горничная захлопнула дверь, оставив меня в комнате совершенно ошеломленным. Это была девчонка с лицом мышки, которую, как мне показалось, я узнал: одна из тех едва одетых смуглянок, которые в те времена дразнили мальчишек, крича под окнами дома к полному отчаянию Гевенеша, не выносившего этих криков.
За исключением нескольких деталей, в которых чувствовалась гостиница, например, телефон цвета мандарина, стоявший на столике в изголовье, со времени Гевенеша ничего не изменилось. Моя беспощадная память узнавала все: посредственную мебель, всю эту обстановку, приобретенную то ли у кого-то в семьях, то ли на барахолке, довольно безобразные восточные ковры.
И то, что было очаровательным, когда Ян и Ио сражались с этим домом, слишком тяжелым для них, теперь источало грусть. Я открыл окно с дырявой противомоскитной сеткой; наклонясь, я мог видеть теннисный корт, голубой бассейн, фотографировавшихся дам.
А спускаясь обедать (я едва узнал своды бывшей кухни и примыкавшего к ней подвала), я встретил Пятницу. Вот история и портрет, предназначенные для того, чтобы мне были прощены мои стенания, излитые выше.
Сначала надо сказать, что два часа, проведенные мной до обеда на кровати, в поблекшей индийской комнате, когда я не смел покинуть ее, чтобы отправиться снова открывать для себя дом, полный привидений, — эти два часа могли создать у меня ощущение, что я расстался с определенной эпохой. Ведь нельзя же было продолжать жить так, как я это делал с марта или с апреля: ковыляя от одной неопределенности к другой, я, казалось, играл в прятки со своим прошлым, травил рану, искал возможность поплакаться. Сейчас, за эти три недели, что я тебе не звонил, я привнес в свое расстройство немного порядка и достоинства. Сегодня вечером мне удалось, распростершись на спине с заложенными под голову руками и блуждая глазами по трещинам в потолке, прийти к выводу, что спасти меня может лишь организация. Робинзон на своем острове спасся благодаря той почти смехотворной методичности, с которой он восстанавливал обстановку и условности цивилизации. Так же должен действовать и я. Раз мне навязали одиночество, я должен его принять, более того, должен его усовершенствовать, углубить, упорядочить. Квартира на улице Шез и новый номер телефона (хотя мне предлагали сохранить прежний) составляют часть этого фантастического необитаемого острова, который может помочь мне перенести, а то и превратить в плюсы все минусы того нового положения, на которое я оказался обречен. Так что с головой, гудящей от всех этих решений, подогретый виски, принесенным мне в комнату смуглянкой, я спустился по лестнице, гигантские размеры которой, запах стен и стершиеся от времени и оттого покатые каменные ступеньки были мне так хорошо знакомы.
Я дожидался, стоя посреди столовой, чтобы метрдотель указал мне мой стол, как вдруг со своего места вскочил какой-то верзила и через все помещение закричал: «Форнеро!». Мое имя прозвучало очень громко и отозвалось эхом, прокатившись от свода к своду. Головы повернулись, одни ко мне, другие в сторону Филиппа Ларше, который приближался с вытянутой рукой и куриным зобом.
Ты помнишь Ларше? Возможно, ты его видела в «Синематеке», в фильмах пятидесятых-шестидесятых лет, в те времена, когда он играл в фильмах Новой Волны, до того как смотался сначала в Рим, а потом в Калифорнию. Там он себя и похоронил, умиротворенный солидным наследством, и больше уже не оповещал мир о своих подвигах. Но не исключено, что ты никогда и не слышала о нем.
Читать дальше