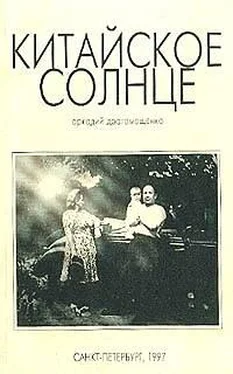"В действительности существует два вопроса, между которыми колеблется наше воображение, скажет о. Лоб, известный некогда в миру как Алексей Лобов, системный программист и хакер: "Действительно ли я умру?" — и: "Действительно ли то, что я жил?" Оба изначально бессмысленны в симметрии, как и вообще всякие вопросы, но любой ответ разваливает их взаимное равновесие, наделяя ненужным значением. Что остается? "Тогда"?"
Я лежал в постели и чувствовал, как остывает лицо — до сих пор мне не приходилось еще сталкиваться с подобной несправедливостью. Непомерность обиды была очевидна (скорее оскорбления…). На рисунке Бог представал совершенным алгебраическим яйцом, топологическим казусом, вовлеченным навсегда в обиход литературы, но случившееся ветвилось в иное. Произошедшее зимним утром, не имея в моем словаре ни места, ни времени, ни описания, ни определения, ни даже отдаленного сходства с чем бы то ни было в опыте, тем не менее, продолжало существовать и теперь совершенно неотделимо от самого меня. Иными словами, я стал ощущать в своем существе некую, возможно чуждую мне, но нескончаемо манящую форму иного существования, открыть которое мне еще только предстояло, — во всяком случае, так думалось. Но сколько лет потом, просыпаясь зимой с радостным предвкушением возможной разгадки, я выходил из дома, пытаясь скрупулезно повторить все особенности того утра, вплоть до поворота головы, количества шагов, мелькавших мыслей, сжимаясь в какое-то подобие шелковичного червя, шара, в фигуру абсолютного покорного ожидания (ведь мне нужно было просто понять, и только; ничего другого я не преследовал), замерзая, теряя себя, леденея от ярости, оставаясь, тем не менее, там, где я был, на улице, под серым небом, за стеной бесполезных и совершенно прозрачных глаз. Вся дальнейшая жизнь частью складывалась из таких же бесповоротно обреченных попыток приближения к давно миновавшему утру — книги, женщины, путешествия, простиравшие свою власть далеко за пределы вещей и снов, боль, которая, как позднее выяснилось, вовсе не принадлежит человеку, невзирая на то, что берет в нем свое "начало", так же как и все остальное, пребывающее в хрупком равновесии на краю словесного усилия, вопреки его интенсивности, и в потоке которой воображение кажется пустой горошиной, обреченной нескончаемому танцу в самообольщении невесомости и бесконечности. Отнюдь не боль принадлежит человеку, но только ее иллюзия — страдание, которое он/она присваивают с такой же корыстью, как и все остальное. И вот, если будешь упражняться в применении боевых колесниц, то будет благоприятно, куда выступить, тогда как беспорочность уйдет в созерцании скул и верного движения. Мало ли что может привлекать внимание. Оконные рамы, высушенные плоды, подсказывающие причудливость очертаний, не имеющего именования, линзы, вращающие прозрачные поля достоверности на нитях сотканных ими лучей. В дождь человеческие запахи усиливаются. Оптика знания, не имеющая к видению ни малейшего отношения: но в поле зрения не "знание", а так… оборванный анекдот, какой-то вздор — возникает коммуна почитателей Гурджиева, эвкалиптовые рощи на бурых холмах вдоль океана между Сан Диего и Лос Анжелесом, хотя расследование начинается с юга России, где, в секте хлыстов, ее видели в последний раз, — но, как бы то ни было, все эти поспешные образы оказываются ничем иным, как результатом последовательности взаимосвязей черного и белого. Наступает временное перемирие. Цвет возникает из его отсутствия, подобно тому, как приходит реальность всевозможных "я", "ты", "эвкалиптов", "реальностей", "отношений" и т. п. В чем заключено бессилие отказаться от этого? Что залегает под этим слоем? Лишь одно осознание существования некой машины, живущей по своим, отстоящим от тебя, законам? Трудно поверить. Но сама "машина" — что она такое? Сцепление нескольких смехотворных метафор? Возможно, просто челночное колебание сомнения в ее существовании, смирения пред ней же, и, безусловно, восстания. Скрипящая дверь.
Наклоненное к стене зеркало у двери, укорачивавшее днем меня и мое время, ночью оставляет несложные уловки и дышит едва подрагивающими, уловленными месячным сиянием в безветрии, облаками: "Во мне происходит несколько жизней, однако ни в одной из них мне не находится места. Я думаю, это ощущение тебе хорошо знакомо, мне кажется, оно знакомо всем". При обстоятельном разглядывании, будто проникая сквозь пленку век, зеркала запаздывали на тончайшую долю предощущения, выказывая природу жидко-кристальной матрицы теней; в зазор ожидания полного схватывания, овладевания отражением того, чем оно порождалось, летела пыльца бессонницы — пыль сомнения в изначальности того либо другого. Только обмен, переход, развеществление в образовании мнились существенными, хотел ты того, или нет. Ночью ты не спишь, избирая в качестве поводыря шепот, остывшие углы которого чисты от теней, слепяще-безучастны, и нет теней, как нет заглавных букв и знаков препинания. Страсть ли это?
Читать дальше