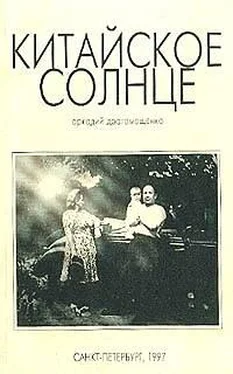"Здесь" нам необходимо, чтобы понять "там" — либо, выражаясь по-иному, соотношение с тем, что названо "там" (темной смолы грозовой цвет небес, и т. д.). Возведение пейзажа в слепых потемках штука по обыкновению непростая и требующая достаточных затрат. Видение его также требует серьезных усилий, поскольку ни лист сам по себе, коснувшийся твоей щеки в ломаном и неравномерном падении, ни атмосферические явления, ни хрупкое равновесие тумана — не могут стать тем, что они есть в совокупности, мгновением холодного, как укол освобождения от… ну, скажем, истин. В качестве пояснения прибавлю, что, например, если бы меня сегодня утром не отпустил геморрой, я возможно ничего бы не увидел, но с другой стороны, геморрой, его настоятельное и сокровенное присутствие в приостановившемся раздражении боли также безусловно является одной из составляющих этого пейзажа, наравне с изветшавшей системой памяти, наобум предлагающей немыслимые в своей безжизненности и смехотворном ничтожестве "воспоминания", которым якобы должно служить связующим составом воспринимаемого. Все, бесспорно, все факторы, включая и те, что являют собой в определенный момент чистое прямое отрицание как таковое, в действительности, становятся неотъемлемой частью действительности. По отношению к которой множество фактов, имевших, возможно, явную значимость, тотчас оказываются — вне, — за. И которые нужно впоследствии добывать, вновь оживляя, или лучше вновь вживляя их в себя. Трансплантация фактов как органов. Те же проблемы — отторжение, неприятие, совместимость.
— И где ты вычитал все это? — спросил о. Лоб.
— Где-то, по пути из Москвы в Петербург, в поезде, — уклончиво ответил Турецкий. — Мало ли где можно вычитать!
— Не понимаю, как можно умиляться такой напыщенной чепухе!
Но я не дал ему договорить:
— Но ты видел Карла?
— Если и видел, то что? Что бы по-твоему я мог увидеть?
Слева зеркало, справа окно. Да-да, еще в туманном детстве, когда я спрашивал о заброшенном замке, стоявшем на скале, возвышавшейся над округой, мать прикладывала палец к губам и, умоляюще глядя поверх моей головы, едва слышно молила не пытать судьбу, поскольку в давние времена, следовало из ее поспешного и, тем не менее, каждый раз обстоятельно повторявшего себя повествования, жил в том замке баснословный злодей, главным наслаждением которого было мучить детей, а затем поедать их живьем. Пояс целомудрия располагает к определенному роду размышлений. Каких детей? Плохих? Детей, которые держат ночью руки под одеялом? Съевших остатки торта и пытающихся это скрыть от Бога? Не выйдет. Отнюдь. Еще чего. Так расправляла свои крыла мечта выучить итальянский. Я думаю о преимуществах знания перед незнанием, в том числе знания итальянского языка, которое позволит, на худой конец, не только петь, но и читать в оригинале Данте Алигьери. Кому он на хуй нужен, твой данте.
Детей, в чьих глазах цветут бледнейшие во всем мире цветы, а тело сковано хроническим насморком? Детей, которые в горячечных мутных фантазиях раздевают — и что маниакально повторяется каждую ночь… ни с чем не сравнимое наслаждение, наподобие итальянского языка или языка как такового — живущую через дорогу двумя домами подалее, к площади, несколько месяцев тому приехавшую из столицы учительницу музыки, и делая это иной раз чрезвычайно медленно, а иногда исступленно быстро, не в силах, впрочем, пройти самую малость, всего лишь последнюю фазу, черту, и потому ничто от того не меняется, поскольку непонятно, что с ней делать дальше. Остаток. Потому что это самый настоящий тупик, безвыходность, какая только может приключиться во снах, это — подлинный нескончаемый кризис бессилия! Нет, такие дети впрямь достойны того, чтобы их поедали живьем. Какое там!
Просто детей. Дети, скорее всего, определенно превращались в абстрактный материал, и каковое превращение в итоге оказывалось не совсем ясным. Каким образом? Почему? Я смотрел на скалу, на замок и, отвлекаясь от собственного образа и тела, к тому времени неотступно следовававших за мной по пятам, наподобие двух блуждающих осей отражения, старался понять, как возможно существование "детей" вне всякого статуса, придаваемого им их поступками или функциями. Да и возможно ли такое? Где же то, что именуется мудростью младенца (наподобие врожденного умения плавать, которое в мгновение ока теряем, очутившись на берегу океана, обнаружив впервые, что окольцованы собственным телом)? Детство как чистейшая безотносительная функция (под стать амальгаме) представало лакомой наградой тому, кто видел его в качестве операторов удвоения, умножения и бесследности. Я сказал матери, что начинаю понимать мотивы злодея, некогда жившего в замке, стоявшем на скале, царившей сквозной буквой пролета над окрестностями. "Так ли?" — испытующе пристально глянув за пенсне в ультрамариновую бездну моих глаз, спросила мать.
Читать дальше