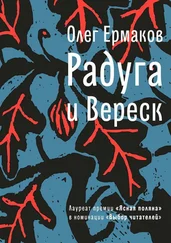Ночью я проснулся и понял, что погода переменилась. Сначала мне показалось, что моя стеклянная призма стоит в незнакомом девственном лесу, где-нибудь в Бразилии. Но это был берег Дан Апра, его корявые дубки, осины. Просто все окутывал и преображал, как водится, туман. Было тихо, Алекс, так, что я слышал, как падают капли с ив в воду, хотя спал на обычном месте, в ста метрах от реки, в Дубках. И мне показалось, что я слышу даже движение реки. Крикнула птица: „Вав!“ Выпь, конечно, но меня просквозило: Семаргл. Сначала я подумал о крылатой священной собаке, а потом уже о выпи. И первый миг был таким же подлинным, как и второй. Впрочем, я ничего не взвешивал. Я поймал веяние из какого-то зазора и почувствовал вкус, затхлый вкус примитивных представлений. Прошлое, на самом деле, ближе, чем мы думаем. Оно никуда не исчезает, оно — в нас. Но и в пространстве. Например, кроме полезных ископаемых, ну, там, мергеля или гравия, из которого и насыпаны лапой ледника все наши с тобой горы, в Местности существуют залежи прошлого. Назови это метафорой, натяжкой, чем угодно. Но я точно знаю, что так тебя нигде не просквозит временем Семаргла, как здесь. Сходи в музей, почитай книжку, академика Рыбакова или этнографа Афанасьева, даже посмотри какой-нибудь псевдоязыческий фильмец, — и все это будет лишь отражением, умствованием о прошлом. А в Местности прошлое — вот.
Местность — заповедник языческих гор.
Разыскивая свою музыку, я наткнулся на одну вещь Шнитке (надеюсь, ты уже освоился с тем фактом, что старый рокнроллщик углубился на чужую территорию), 2 симфония „Св. Флориан“, так назывался монастырь, где служил органистом еще один классик — Брукнер, ему посвящена симфония. Ну, симфония космическая даже по времени звучания — около часа. Но и по существу. И там есть интересные партии хора: как будто перекличка с гор, окутанных вязким туманом (Шнитке не стеснялся использовать синтезатор). Когда я, вернувшись на болота Невы, услышал эти хоры, сразу вспомнил туманную ночь и утро нашей Местности. Хотя, должен сказать, перекликались наши горы не на латыни, как у Шнитке. Но это не так важно! У Шнитке даже и не разберешь, что за язык, скорее это какое-то космическое эсперанто, перекличка обитаемых миров… Но, кажется, Алекс, я сам увлекся умствованием. Ты приедешь и сможешь все испытать на себе.
И все-таки я дорасскажу, чтобы тебе там вольнее дышалось. Хотя, знаешь, я даже не уверен, что сам рассказываю. Время от времени у меня возникает впечатление, что кто-то говорит вместо меня. (Да не думай, я в своем уме, голодные галлюцинации побеждены скромной, но вполне сытной студенческой жрачкой.) Но я хочу спросить, у тебя никогда, что ли, не возникало такой мысли, что кто-то в нас говорит? Какая-то речь? Естественно, без нас она существовать не может, как не может летать птица без воздуха. Но в то же время она и независима, потому что порой сама говорит. Я иногда слышу, как она балакает обо мне: и вот, мол, рыжий и худой Егор уже не мог заснуть, дрожа в тумане, он поссал, развел огонь, напился чая, догрыз последний сухарь и т. д.
А так оно и было. Спать я уже не хотел. Собрал „стеклянный“ домик, погрел у костерка руки и пошел. Мне надо было попасть до восхода на Пирамиду. Так я решил. Или скорее оно само решилось.
И в молочных сумерках я топал по Красной дороге, вспугнул жаворонка, он ввинтился в небо, поработал на высоте отчаянно крыльями, так что уже казался многокрылым, — и, не издав ни звука, спикировал в траву, то ли холодом, а может, восторгом, свело бедняге Франциску рот. А по обочине дороги тянулись молчаливые следы брата Волка, как обычно, слева. Несмотря на ходьбу под рюкзаком, я все-таки порядком продрог, куртка и штаны намокли от трав и листьев, и мне уже идея этого утреннего марш-броска представлялась вполне дурацкой, лежал бы себе в спальнике под целлофаном, фантазируя о Семаргле, Мокоши, Рожаницах, ну, ты знаешь весь пантеон.
Шел я, шел, как в лаптях — в сапогах с налипшей глиной, и видел уже впереди в Ольшаных Воротах гору, пасмурную, безликую, серую в зарослях отцветшего иван-чая. Как вдруг откуда-то из-за ярцевских лесов воздух разрезала просека и по ней помчался первый скорый и ударил в железную макушку горы, рассыпался грудой злата. Не оглядываясь, я ускорил шаг.
А многокрылый Франциск уже занял воздушную кафедру и читал проповедь о брате Солнце. Ты помнишь ее?
Когда я вступил в Ольшаные Ворота, гора наполовину утопала в металлоломе солнечных поездов.
Читать дальше