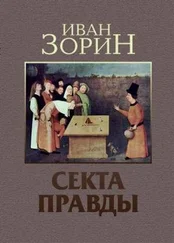− Ещё один сумасшедший! — неслось ему вслед.
− А вы? — не выдержав, оборачивался он. — Вы?
− И мы такие же, − примирительно улыбались они. — У каждого в голове свои тараканы.
− Не прячьтесь за безумие! — протестующее махал руками Авессалом. — Не принижайте его своей дурью!
Они застывали в растерянных позах, неловко поправляя галстуки, и у них не сходила улыбка, ставшая частью лица. Так, сжимая кулаки, представлял Авессалом, проходя мимо с опущенной головой, изредка бросая исподлобья взгляд в их сторону. Они оживлённо беседовали, пересчитывая, точно деньги, входящих в дверь посетителей, перебрасывались шутками, смысл которых от него ускользал.
«Хорошо, что все умрут», − глядя на них, думал Авессалом, ускоряя шаг.
Авессалом был единственным из жильцов, заставшим первого управдома и дотянувшим до последнего. Тёмными, бессонными ночами эти назначенные судьбой администраторы выныривали из кривых закоулков его памяти, представая в неприкрытой наготе. Он с обнажающей ясностью видел Савелия Тяхта, прозревавшего будущее, которое не в силах был изменить, его преемника Нестора, с простодушной прямолинейностью исправлявшего настоящее, истребляя его изъяны, и, наконец, торжествующего Луку, бессмысленно борющегося с прошлым, уничтожая его следы. Эти правители дома олицетворяли типы общественных лидеров: романтического утописта, страстного реформатора, чья деятельность так или иначе сводится к чисткам, и узколобого прагматика, лишённого замыслов, способного лишь расчищать площадку для других. Одарённые каждый своим талантом, для Авессалома они были равноценны, его разбитое сердце, отвергая всех троих, жаждало лишь безраздельной любви, которую он так и не встретил в доме и которая единственная, по его мнению, была достойна управления в нём. Оглядываясь назад, Авессалом гадал, как бы всё сложилось, повернись иначе колесо фортуны, спорил с собой, рассматривая упущенные возможности, перебирая варианты, не реализовавшиеся в настоящее, но эти рассуждения носили чисто академический характер. Сломленному чужим равнодушием, судьба дома ему была так же безразлична, как и собственная, он жил по принципу: дотянуть до могилы, а на ней — хоть трава на ней не расти. В своей одинокой берлоге Авессалом окончательно зарос грязью, не раздеваясь, спал на неприбранной кровати, отвернувшись к стене, пугал храпом тараканов на грязных обоях, тут же ел, соря крошками, застревавшими в спутанных, висевших паклей волосах, доходивших до пояса, сквозь которые были видны лишь желтевшие зубы и мёртвые глаза, запечатлевшие время тысячелетней давности. И всё же иногда, едва не сбрасывая на пол одеяло, просыпался от собственного крика: «Нами правят безумцы!» Тогда он переворачивался на другой бок, и, накрывшись с головой, повторял, как заклинание: «А разве мы сами не душевнобольные?»
Узнав о выселении, дом загудел, как встревоженный улей, у закусочной зачернели кучки, угрожающе трясли кулаками, кричали, что перебьют вдребезги стёкла. Но останавливала охрана, безучастно поигрывавшая резиновыми дубинками. Так что полетел лишь один камень, брошенный Антоном Сиверсом. Он возмущался больше всех, хотя прожил в доме без году неделя. «С какой стати! — захлебывался он слюной. — С какой стати!» По рукам пустили лист с гневным обращением, который быстро покрылся неразборчивыми подписями. День ото дня негодование нарастало. Стены уже стояли разрисованные, в подъездах клеили призывы остановить оккупацию, даже Артамон Кульчий разразился обличительными стихами, которые, написав от руки неряшливым, размашистым почерком, расклеил на фонарных столбах. Лука не вмешивался, по-прежнему вёл тайные переговоры, набивая себе цену. К нему приходили с жалобами, встречая, он выслушивал с железной маской на лице, обещал сделать всё от него зависевшее, произнося тем деревянным и одновременно внушительным голосом, который развивает постоянное общение: «Глас народа — глас Божий! − а, проводив гостей, ухмылялся: — Его также никто не слышит». С неделю домоуправа никто не видел, а потом вдруг увидели в десяти местах сразу. Обходя квартиру за квартирой, он уговаривал, убеждал, угрожал. «Гиблое место, − широким жестом обводил он дом. — А с деньгами перед вами откроется весть мир!» Ему возражали. «А что, пусть всё идет, как шло? Чтобы какой-нибудь Сухаверх и Мокрониз опять выясняли отношения? Так и вижу их: «Каждый по-своему с ума сходит», − крутит один у виска, когда другой целыми днями валяется в постели. «Верно, − косится тот, − некоторые сутками в офисе горбатятся». И так с утра до ночи! Или когда повально в детство впадают?» А заканчивал двусмысленно: «Думаешь, худшие времена переживаешь, а оказывается — лучшие». Его не смущали ни слёзы, ни жалобы. «Я и сам провёл тут лучшие годы, − стучал он себя в грудь. — Но больше так жить нельзя!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу