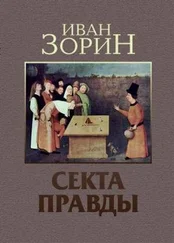− Ну, давай, выкладывай, − без обиняков начал он, усаживаясь рядом.
От его прямоты у Артамона зачесалась лопатка, и он, как кошка, потерся спиной о дуб.
− О чём ты? — ещё храбрился он. — Я тебя не понимаю.
− Брось, я же вижу, как тебя плющит, — осадил его Лука. − Выскажись, станет легче.
− Не знаю, как жить… − промямлил Артамон, с особенной силой ощутив в груди тянущую пустоту. — И не знаю, зачем…
Лука расхохотался.
− Э, брат, и всё? А ты думаешь, кто-нибудь знает? Живут, как живот велит, клетки делятся, а мы — следом. Размножаемся, стареем. Они и в могилу за собой потащат. − Но почувствовав, что от него ждут другого, на ходу перестроился. — Это пройдёт, поверь, все через такое проходят…
Артамон уставился на канал и смотрел так пристально, что в какой-то момент слился с его гранитным парапетом, различив на нём каждую выбоину.
− Знаешь, мне иногда кажется, что меня вовсе нет, − вздохнул он. — Как моей матери.
− Кому кажется? — мгновенно поймал его Лука, захлопнув капкан логики, в которую давно не верил.
Оторвавшись от блестевшего вдалеке канала, Артамон повеселел, будто просветлённый ученик, взглянув на учителя, и с тех пор прилепился к Луке, повсюду бегая за ним, как собачонка, открывая с носка дверь в его дворницкую. Иногда Лука был занят, разговаривая с собой, оживлённо жестикулировал, будто доказывал что-то незримому собеседнику, и тогда Артамон, не видевший призраков, приходивших в дворницкую наравне с живыми, тихонько прикрывал дверь. Но пройдет время, и Артамон Кульчий, научившись самостоятельно сопротивляться безумию, будет морочить голову другим такими же словесными кунштюками, каждый раз со смущённой улыбкой вспоминая, как отрезвляюще подействовал на него риторический прием, применённый домоуправом.
Слова, слова. Кочующие по эпохам, как тарелки, наполняемые разным содержанием, затёртые, захватанные, они презирались Лукой; наделённый видением иного рода, он знал, что бытие течёт вне причин и следствий, точно так же, как мысль − вне слов, от рождения чувствуя их пустоту, он умело перебирал их скорлупки, в которые не вкладывал души, и, точно напёрсточник, всегда оказывался в выигрыше, слывя красноречивым и убедительным.
Рядом с закусочной поставили туалеты, но из-за очередей, особенно к вечеру, мочились где попало, справляли нужду в кустах, гадили, как когда-то, во времена Академика, серые голуби, а мусорные баки были до отказа забиты обрывками газет, грязными салфетками, объедками, пластиковыми бутылками, пьяными разговорами, обещаниями и тоской. В часы работы закусочной во дворе шумели, веселились, галдели, отрывисто гудели клаксоны подъезжавших машин, от которых включалась сигнализация припаркованных, а ночью от всей дневной суматохи оставались лишь злобное урчание и блестевшие глаза рывшихся в мусоре тощих кошек.
В трёх комнатах на первом этаже пищевая компания из благотворительности устроила пансион для умственно отсталых. «Жаль, инвалид из третьего подъезда не дожил», − осмотрел его Лука. Он пришёл как домоуправ, обязанный согласовать с жильцами открытие в доме приюта, но незаметно для себя стал проводить всё больше времени в его стенах, среди его бесхитростных обитателей, оставшихся детьми. Там он отдыхал, раскладывая вместе с ними кубики и раскрашивая контурные картинки, вспоминал себя ребёнком, беспомощно и доверчиво глядевшим из-за материнской юбки, улыбался, снова становясь Прохором. Он горстями раздавал леденцы, улучив момент, когда дремала на стуле Юлия Августовна Зима, дряхлая воспитательница, которую от старости не спасали даже фиалковые духи. «Тё-тя заругает», − испуганно озираясь, разбирали конфеты, пряча за щеку, и Прохор-Лука думал, что ангелы в раю, наверняка, лишены привычного нам житейского разума. «Э-э, дя-дя, − протягивали ему разрисованный пакет, набитый тряпьем, − вот кукла…» И он баюкал её на руках, тихо напевая: «Чтобы любить тебя, не надо любить себя, чтобы любить себя, не надо любить тебя», — а потом шёл к Порфирию Кляцу, стучал кулаком, требуя документы на использование жилых помещений. Кляц щурился, вставал из-за стола и без единого слова находил с ним общий язык, опуская в карман мятые купюры. Лука брал деньги, которые ему были не нужны, чтобы напомнить о своих правах, а подачки Кляца анонимно переводил в пансион для умственно отсталых.
От грязи двор напоминал птичий, и первым не выдержал Артамон Кульчий.
− Это безобразие, − нависал он над Порфирием Кляцем колодезным журавлём, так что видел каждую волосинку на его плешивевшей макушке. — Убирайтесь со своей обжоркой! Жили без вас! Кто вас звал?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу