— Бери, Хана, это твое.
Фрид: Отто! Ты с ума сошел?!
Отто: Мы не можем вмешиваться в творческие приемы другого мастера. Настоящего мастера. Верно, Альберт?
Фрид, задыхаясь, заикаясь, с прерывистым клекотом в горле:
— Но… Холера! — она опасна для окружающих… Ты сам видел.
Отто: Она опасна только для Него одного. А Он не из нашей компании.
Он протянул ей бритву, и она, бросив на него недоверчивый звериный взгляд, снова единым взмахом руки спрятала орудие мести в недрах своего парика.
Взволнованные, потрясенные, подавленные всем случившимся мастера искусств повернулись, намереваясь уйти. Казик повыл еще немного, но вскоре забыл про причиненную ему боль. Как ни странно, своего вожделения к ней он отнюдь не забыл. Беспрерывно останавливался, тянул Фрида назад и умолял вернуться к ней. При этом свободная его рука безостановочно теребила крошечные половые органы. Начиная с этого дня он неутомимо предавался греху мастурбации (см. статью — онанизм ). Он еще не до конца осознал меру своей страшной потери.

— художник.
Профессия Казика в последующие годы, после непродолжительного периода его отношений с Ханой Цитрин (см. статью Цитрин, Хана ). Этой главой своей жизни он целиком обязан силе воображения оберштурмбаннфюрера Найгеля. Не приходится сомневаться, что все произошедшее с комендантом лагеря во время его непродолжительного отпуска (см. статью отпуск ) в Мюнхене (см. статью катастрофа ) имело решающее значение для его последующих поступков. Вассерман предполагает, что, поскольку вся жизнь Найгеля в одночасье оказалась непоправимо разбитой и разрушенной и он в мгновение ока утратил нерушимую веру в историческую необходимость своей «работы» и важность собственного «посланничества», а также лишился последней надежды вернуть себе любовь жены и продолжать совместную счастливую жизнь, ему уже не оставалось ничего иного, как отдать все силы души литературному творчеству. Направить неиссякаемый поток энергии своей могучей натуры в единственное, хотя и достаточно тесное, русло, которое все еще представлялось открытым для этого: внести свою лепту в рассказ Вассермана. Последний признается, что порой пугался «этого чуждого влияния, этого проявления навязчивого присутствия, бивших из Найгеля».
— Кто мог быть пророком и предсказать, что моя жалкая повесть нежданно-негаданно превратится в краеугольный камень существования этого гоя? Ой, Аншел Вассерман, своей рукой написал ты Исаву Новейший из новых, Третий завет!
Следует объяснить читателю, что оба они сидят, как заведено, будто ничего и не случилось, в кабинете Найгеля, но в отличие от прежних дней Найгель берет на себя основной труд развития сюжета. Он слишком много говорит, без конца курит и не в меру пьет. Глаза его воспалились и покраснели, потное лицо неприятно блестит, движения более не сдержанны и не выверенны. Веки то и дело нервно подергиваются. Оба сочинителя совместными усилиями подыскивают подходящий род занятий (см. статью искусство ) для Казика. Что-то такое, что хотя бы отчасти утолит его безумную жажду деятельности, этот интеллектуальный голод, завладевший им после того, как он открыл для себя любовь (см. статью любовь ) и в результате познал — благодаря ночному путешествию в сомнамбулическом сне — истинную глубину своих чувств (см. статью эмоции ) и власть над человеческим созданием таких состояний, как счастье и горе.
— Что-то такое, что поможет ему, — объясняет Найгель, — побыстрей излечиться от ран любви, разочарования и отрезвления.
— Обратить страдание (см. статью страдание ) в продукт творчества (см. статью творчество ), — вторит ему Вассерман с особым нажимом в голосе и сообщает, что малюсенький Казик — тем не менее мужчина в расцвете сил; он громогласно декларирует свою великую любовь к этой жизни и даже заключенной в ней горечи. Жизнь все еще представляется ему бесконечно долгой, надежной, сулящей наслаждение и радости, и он готов время от времени платить определенную цену, которую она взимает со своих посетителей.
Напомним, что уже половина одиннадцатого утра и Казику теперь почти сорок. Стоит очаровательное прозрачное утро, чистая синева неба отражается в пруду, и звонкий голосок Казика легко устремляется ввысь. Он любит порассуждать о своей «вечной любви», прежней жизни и надеждах на будущее. Есть что-то навязчивое и искусственное в его попытках убедить себя в том, что жизнь действительно хороша и достойна того, чтобы восхищаться ею. Несвойственная ему прежде болтливость тоже немного смущает, но, возможно, это его способ заживления ран. Найгель, во всяком случае, не чувствует этих весьма незначительных несообразностей в поведении Казика, он тоскливо внимает его речам, готовый верить всему. Поэтому Вассерман присовокупляет к рассказу и пространное описание того, как даже пожилые мастера искусств, казалось бы, умудренные горьким опытом прожитых лет, поддались соблазну поверить Казику. Волна внезапной радости породила новый прилив душистого цветения на теле Фрида. Найгель слушает и кивает в знак согласия. Наливает себе еще рюмочку из почти приконченной бутылки. Вассерман выжидает, пока немец опрокинет спирт в свою глотку, и тогда смущенно признается, что не знает, какое ремесло избрать для Казика, чтобы сделать его счастливым. Найгель, именно Найгель, принимается выдвигать одну смелую идею за другой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
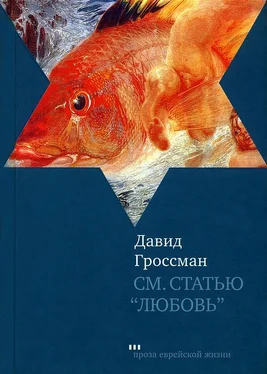



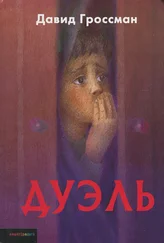


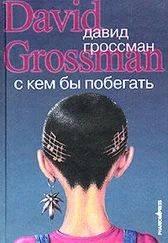

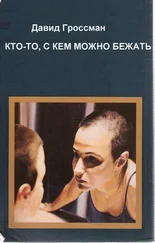

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
