Я подавляю вздох.
— И теперь, — она старается придать своему голосу оттенок веселости и шаловливо окатывает меня высокой волной, — теперь окажи мне эту последнюю милость, не сердись на меня из-за этой моей глупой просьбы и подумай о нем — ради меня, дорогой, в последний раз. Подумай о нем, пока ты еще здесь, во мне, о нашем Бруно, пожалуйста, пожалуйста, ведь через минуту мы расстанемся, верно? И больше уже не будет никого, кто так хорошо рассказал бы мне о нем, о моем Бруно, стоящем одиноко там, на краю пристани в Данциге, подумай о нем, только чтобы я смогла подумать вместе с тобой, ты ведь знаешь: небольшая медицинская проблема… Пожалуйста, пожалуйста!..
Моргает длинными ресницами водорослей, трогательно дрожит и раздувает ноздри. Нет, она не обманет меня своими дешевыми фокусами, этими женскими хитростями и женственными красками — я как раз не стану думать о нем. Пусть лопнет от злости. Она не сумеет подчинить меня своей воле, не сумеет подвести, как лунатика, как влюбленного слепца, к порту Данцига, к этому краю пропасти, к границе старого мира — нет! Я сильнее ее, я равнодушен к этому мелкому дождику, падающему в нее, как слезы, — Боже, как он тщедушен, как обнажен в своей скинутой на причал одежде, только часы еще остались ему на несколько мгновений, часы, отмеряющие прежнее застывшее время, он прыгает, в отчаянии отрывается от настила — так мужественно, так смело, — но ведь у него нет выбора! — прыгает с конца причала, с вытянутого носа всей этой гигантской подлости, этой зловещей мертвечины, такой одинокий, как первый огнепоклонник, решившийся вознестись от тотема к неизведанной, скрытой от глаз, иной непостижимой сущности, какой прекрасный полет, Бруно, какая ширь, какой размах…
Разумеется, она тут, рядом, возле меня — усмехается, давится смехом.
Ко всем восточным ветрам…
После того как не сумели убить его и с третьей попытки, решили препроводить наглеца в канцелярию начальника лагеря. Молоденький эсэсовец по фамилии Хопфлер, успевший уже, несмотря на свой юный возраст, получить офицерский чин, подбадривает его отрывистыми выкриками «шнель!» и сам легкой рысью поспешает следом. Я очень хорошо представляю себе их обоих, перемещающихся таким манером из Нижнего лагеря, в котором расположены газовые камеры, по направлению к основному. Вот они достигли прохода между двумя рядами колючей проволоки, замаскированной для благопристойности и отрады глаз веселенькими зелеными кустиками. Через этот коридор прогоняют новые партии прибывающих заключенных: голые ошалевшие от ужаса люди бегут между двумя шеренгами украинцев, которые не скупятся на удары дубинок и для острастки науськивают на них рвущихся с поводков громадных злющих собак. Узники прозвали этот путь «шлаух» — труба; а немцы, с присущим им юмором, «химмельштрассе» — дорога на небо.
Аншел Вассерман облачен в пеструю шелковую мантию, достойную королевской особы, — настоящую царскую порфиру. На шее у него подвешены большие круглые часы, при каждом шаге пребольно ударяющие и по груди, и по коленям. Он необыкновенно худ, спина сгорблена, на лице проступает колючая щетина. На затылке торчит уродливый горб. На сотнях и тысячах лагерных фотографий, прошедших через мои руки, я ни разу не видел узника, одетого столь затейливо. В данный момент они пробегают мимо плаца, где ежедневно проводятся построения, и останавливаются наконец перед помещением коменданта лагеря. Вассерман задыхается и с трудом держится на ногах. Окна мрачного двухэтажного деревянного казарменного барака задернуты занавесками. На двери прибита небольшая металлическая табличка: «Комендант лагеря», рядом, на передней стене, красуется доска побольше: «Строительные работы: компания „Хорнбахер, Лейпциг“ и компания „Шмидт Мюнстерман“». Все это, включая мельчайшие детали планировки и оформления, давно знакомо мне, я отлично знаю, как выглядел любой нацистский лагерь снаружи и изнутри, а также с воздуха, но сейчас мне не хватает главного. Хопфлер сообщает что-то украинцу-часовому, стоящему у входа, и тут Вассерман слегка поворачивает голову и устремляет взгляд на меня. На мгновение наши глаза встречаются — на один лишь краткий миг, — но я вдруг чувствую себя новорожденным младенцем, которого отдали в надежные добрые руки, потому что в удушье и тумане последних месяцев совершенно разуверился в своей способности что-либо понимать, а тем более писать, и этот взгляд приходит очень вовремя — как столь необходимая дружеская поддержка, как нежное ободряющее похлопывание родной трепетной ладони, и все части мозаики, только что такие непостижимые и несхожие, абсолютно чуждые друг другу, мгновенно встают на свое место и складываются в ясную картину. Дедушка Аншел узнал меня, и я почувствовал это. Но сколько в его взгляде недоумения и страха! Несчастный старик — за дверью его ожидает встреча с комендантом лагеря оберштурмбаннфюрером Найгелем. Я начинаю колебаться: может, нельзя мне, непозволительно еще раз подвергать его этому испытанию, бесчестно и жестоко снова возвращать туда, в логово нацистского зверя, но что же мне делать? Без его помощи я не справлюсь — ведь это он побывал Там. К тому же он, как видно, — один из тех немногих, которые знают дорогу обратно, которые, вопреки всему, сумели выбраться наружу, так что если уж я решился наконец войти туда и перешагнуть эту страшную черту, то предпочтительней сделать это с ним.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
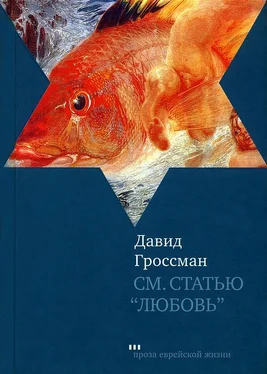


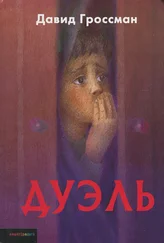


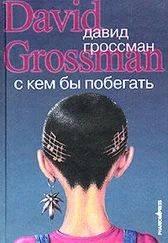

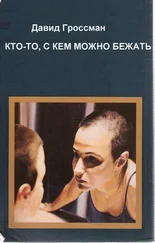

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
