Он поднял на меня глаза, полные отчаяния и мольбы о пощаде.
Я подыскиваю мысленно убедительные доводы против его тщетных и нелепых фантазий: например, как сможет существовать стройная и упорядоченная система судопроизводства и справедливости в таком мире, развитая и последовательная наука, и что будет с политикой и международными договорами, тысячью соглашений, регулирующих отношения между правительствами и странами, с армиями и экономикой, и что станется с…
Но мысли мои тотчас тускнеют и повергают меня в уныние, ведь все это уже потерпело однажды поражение. Солгало столь убийственным образом. И нет такой силы в мире, которая помешала бы самому образцовому порядку служить орудием самых ужасных злодеяний. И разве — спрашиваю я себя с угрюмой прямотой, — разве Рузвельт и Черчилль были «добром»? Благом? Что они противопоставили чудовищной машине истребления? Свои танки и самолеты, подводные лодки? Выдвинули против одного зла другое! Чувство безвыходности и безнадежности овладело мной. Мне захотелось выйти из моря и отправиться домой — и позабыть, что я когда-то стоял здесь и задавал эти вопросы. Но у меня не было сил даже на это. Еще одно разочарование… Я погрузил лицо в воду. Не может быть, чтобы это был наш вечный приговор. Бруно, конечно же, ошибается.
— Скажи мне, пожалуйста, — спрашиваю я его и тщетно пытаюсь выглядеть холодным и язвительным, — на каком основании ты полагаешь, что отдельные лоскутки, клочки бумаги, порхающие в воздухе, вообще пожелают завязывать отношения друг с другом, беседовать, дружить, творить? Что помешает им, лишенным всякого сознания, просто опасть на брусчатку или продолжать бесцельно порхать в воздухе? Скажи мне, Бруно.
— Ты вообще ничего не понял, — говорит мальчик, эта печальная рыбка, глядя на меня с откровенным разочарованием и неторопливо объясняет то, что я сам должен был давно уже сообразить: — Они все люди и в силу одного этого творят. Они осуждены на это. Принуждены к этому своей природой — лепить, создавать свою жизнь. Свою любовь и ненависть, свободу духа и мелодию своей души: все мы художники, Шломо, но только некоторые из нас позабыли об этом, а другие предпочитают игнорировать сей несомненный факт из-за странного опасения показаться смешными и легкомысленными, чего я вообще не в состоянии понять, некоторые осознают это только на пороге смерти, а есть и такие — как одна небезызвестная тетя, которую я не стану называть по имени из уважения к тому, что от нее осталось, — которые не понимают этого и тогда…
— А мы? Поэты, скульпторы, музыканты, актеры, писатели?
— Ах, Шломо, в сравнении с истинным искусством, свободным, естественным, литература и музыка — не что иное, как жалкое ремесло, случайная работа копировальщика, попытка убогих поверхностных толкований, чтобы не сказать прямо: жалкий плагиат, лишенный воображения и таланта…
— Если так, — продолжил я с некоторой осторожностью, опасаясь причинить ему излишнюю боль, — что бы ты сказал… Как мы все-таки могли продолжать жить в нашем старом мире после определенного происшествия, о котором я случайно прослышал… После поступка некоего человека… Ты пока что не знаешь его или, может, уже забыл о нем… Который выстрелил в одного еврея, только чтобы досадить своему начальнику… то есть сопернику, и тот…
— Я ведь уже сказал, — в волнении прервал Бруно мою сбивчивую речь, как видно, вообще не желая слышать продолжения, — я уже три раза повторил тебе, что такие вещи могут и даже обязаны происходить в той подлой гнилой культуре! — Он сделал несколько кругов, опустился глубоко под воду, а потом вернулся и проплыл мимо меня, ловко работая хвостиком, как исполненный жизненной силы сперматозоид. — Теперь все поймут, что тот, кто убивает другого человека, приводит таким образом к гибели исключительного, единственного в своем роде синкретического искусства, которое никогда уже невозможно будет восстановить… Целая мифология, бесконечная гениальная эпоха…
Тут он остановился, замолчал и взглянул на меня с подозрением. Возможно, почувствовал, что рассказанное мною имеет какое-то отношение к нему. Небольшое его тельце непрерывно дергалось и пульсировало, попеременно обретая то внешность ребенка, то образ рыбы. В глаза мне ударил яркий блик, вызванный покачиванием какой-то побрякушки, блесны или лакированной туфельки — волшебного башмачка Адели. А может, проплывающей мимо серебристой рыбки или изгибом услужливой волны, специально отправленной ко мне, чтобы отвлечь мое внимание, и когда я опять взглянул на Бруно, то увидел, что он охвачен приступом дрожи, сотрясается в невыносимой лихорадке и одновременно съеживается и исчезает, не то чтобы уменьшается в размере, но, скорее, вообще перестает быть, исчезает по сути своей, делается все более и более воздушным, бестелесным, предельно ветхим — не в обычном смысле этого слова, но в том, которое могли бы придать ему Бруно и я…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
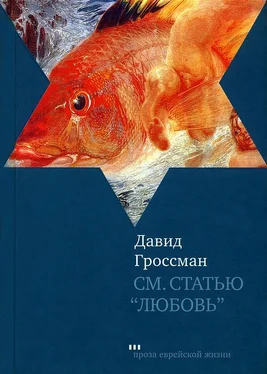


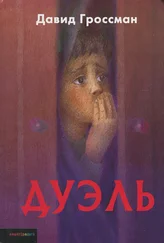


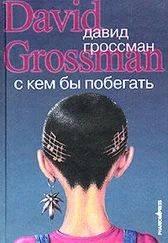

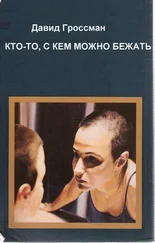

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
