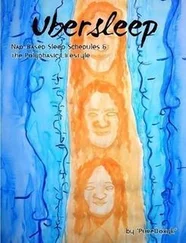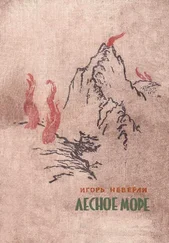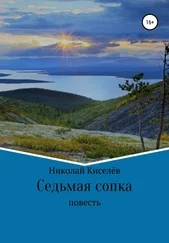— Евка рассказала.
Раз они так откровенничали, то что еще ей рассказывала Евка?.. Он весь похолодел при мысли о бане...
А красивый бумажник продолжал лежать на столе, сверкая золотой монограммой.
— У вас хороший вкус. Я люблю красивые вещи.
— Вкус не у меня, а у Зотова. Он подарил мне этот бумажник в благодарность за один меткий выстрел и, может, за одну хорошую идею.
Он рассказал о том, что произошло в Синице и в «Самородке» при обсуждении проекта заповедника.
— Красивый,— сказала она, возвращая бумажник.— Спрячьте, о Гоздаве же не беспокойтесь. Пани Элиза привыкла ко мне... А что касается денег, то я даже упросила отца присылать мне не двести рублей в месяц, а только сто... А какие у вас планы?
— Да все останется, как было. Будем вместе жить, охотиться, помогать друг другу и так коротать будни и праздники, бурятский Цам, православное Рождество...
— А польское?
— Ну что за праздник в одиночестве? О польских праздниках стараюсь не думать, не вспоминать.
— Уже сколько лет?
— Семь... Да, последний сочельник я провел дома в тысяча девятьсот пятом году.
Вера Львовна задумалась.
— У нас Рождество в разное время... Разница между юлианским и грегорианским календарями.
— Да, тринадцать дней.
— Значит, вот что. Я вас приглашаю на польский сочельник. Будет все, как в Варшаве. Не забудьте. Жду вас к праздничному столу!
На следующий день по возвращении в комнату к Брониславу постучался Павел, растрогавшийся накануне так, что полученное снаряжение — одежда, обувь, оружие и даже бритва у него буквально валились из рук.
— Вы ничего обо мне не знаете, я должен рассказать вам.
— Ты ничего не должен, Павел, совсем не должен. Я и без этого тебе доверяю.
— Но я хочу снять с себя эту тяжесть.
— Тогда другое дело. Говори.
И Павел рассказал ему свою историю. Он родом из Самарской губернии. Родился в большом селе Новодевичьем на правом берегу Волги. Вырос в зажиточной крестьянской семье, кончил сельскую школу, у него еще три брата и две сестры. В двадцать один год попал в солдаты, определили его в нестроевую команду, где он и обучился плотничьему и столярному делу. Затем его направили в унтер-офицерское училище, которое он закончил в звании младшего унтера. На русско-японской войне он хорошо себя показал, наводя переправы на манчжурских реках, капитан обещал через три года, когда уйдет в отставку старый фельдфебель, назначить его на это место. Но опьяненный весной 1905 года он отказался остаться на сверхсрочной, захотелось свободы, вернулся в деревню, поставил избу и стал хозяйничать на своем наделе, а зимой уезжал столярничать в Самару. Там он познакомился с Аксиньей, горничной в господском доме, женился и продолжал жить по-прежнему — весной п летом в деревне, осенью и зимой в Самаре. Однажды весной, возвращаясь в деревню, он заехал по дороге к куму, и тот ему рассказал, что его жена спуталась с сыном сельского лавочника. Обезумев от ярости, он убил любовника, когда тот пытался выскочить в окно, а па жену, покорно подставившую голову под топор, только замахнулся и крикнул: «Зови свидетелей, пусть меня вяжут!» Его связали, судили и приговорили к пятнадцати годам каторги с последующим поселением в Сибири. Павел выдержал два года в Иркутском централе, а на третий, летом, спрятался в телеге с мусором, и его вечером вывезли на загородную свалку. Он шел по тайге на север, чтобы выйти к острову в излучине Ангары и там спрятаться у староверов, как ему обещал их старец, иркутский каторжник. Шел два месяца, обходя стороной села и деревни, воруя, где было можно, что-нибудь из еды. Выбился из сил, отощал, его донимали гнус и вши, потом вдруг вышел к сторожке на Мысе и понял, что там недавно ночевали. В полуобморочном состоянии он побрел по тропе, хватаясь за зарубки на деревьях, как слепой за забор — здесь проходил человек, живой человек в этом страшном лесном безлюдье, увидеть бы его разок,— а там и помереть можно... Так он дотащился до сопки, увидел дом, людей, работающих на крыше. Подумал: «Покрывают гонтом, мирные люди» — и потерял сознание...
— Я рад тебе, Павел, с тобой хоть поговорить можно... Живи здесь, сколько захочешь, работу сам себе найдешь.
А буряты по возвращении не показывались. Странно, получив столь щедрые дары, словно бы забыли дорогу к дому. Бронислав решил их не тревожить — раз не идут, значит, на то есть свои причины...
Так прошла неделя, другая. В конце третьей недели заявились буряты — торжественные и нарядные. Старик Хонгодор, Цаган, Дандор и два старших сына. На их новых лисьих малахаях развевались пестрые ленты. Новые тулупы, скроенные как халаты, были расшиты разноцветными нитками, все остальное на них тоже было прямо с иголочки — кисеты, кожаные мешочки для огнива на поясах, отделанные аппликациями унты.
Читать дальше