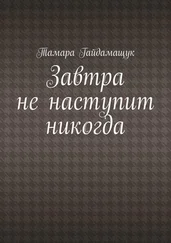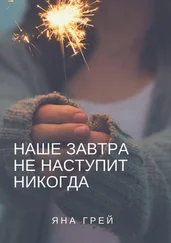* * *
Мемель не запомнился чем-либо привлекательным, за исключением порта. У родителей моей мамы был летний домик в курортном местечке под названием Паланга. Попасть туда можно было на пароходе, следующим до Кенигсберга. Я очень любила Палангу — у меня там было множество друзей, приезжавших туда каждое лето.
Немцы захватили Мемель 21 марта 1939 года. В это время мы вместе с родителями моей мамы и остальными родственниками уже перебрались в Ковно, в Литву. Мы не оказались там в нищете, как многие беженцы, так как смогли увезти с собой многое из своего имущества. Я, к примеру, взяла своего плюшевого медвежонка и куклу Лесли. Отец продолжал свою деятельность в качестве представителя голландских фирм в Литве.
Ковно показался, по сравнению с Мемелем, много более привлекательным городом, обладавшим огромным очарованием. Мы заняли квартиру на центральной улице, носившей имя Костюшко. Еврейская реальная гимназия, которую я стала посещать, была на другом конце широкого проспекта, а перед ней находилось здание театра. Наша квартира располагалась на четвертом этаже, и Лена, литовская домработница, каждый день приходила к нам наводить чистоту и готовить.
Международная обстановка меня не пугала. Что огорчало меня на самом деле, так это перемена школ. Я перешла из немецкой школы в еврейскую, где обучение шло на иврите, которого я не знала. Неожиданно я оказалась вместе с новыми ребятами в незнакомом городе, и я должна была освоиться в этой ситуации. Я не любила быть аутсайдером; и все теперь упиралось в язык.
Я взялась за иврит изо всех сил, и уже достигла значительного прогресса, но изменившиеся обстоятельства снова поставили меня в сложное положение. Советские войска заняли Ковно в июне 1940 года, и тут же было запрещено изучение иврита. Новым языком в гимназии был объявлен идиш. Он в достаточной степени похож на немецкий, так что больших затруднений с ним у меня не возникло, и я хорошо знаю его до сих пор, но появились еще русский и литовский, о которых я не имела никакого представления. Привыкнув к ответственности, я взялась и за них — в этом мне помогал репетитор, который заставлял меня выучивать на память поэмы на русском и литовском, так что вскоре я снова оказалась в числе лучших учеников класса. Невзирая на трудности, я любила осваивать новые языки. Если кто-нибудь меня тогда спрашивал, кем я хочу стать, когда вырасту, то я говорила: «Переводчиком или актрисой». И когда бы учитель ни спрашивал, кто хочет играть в очередной школьной постановке, моя рука поднималась вверх одной из первых. Но шансов завести близких друзей в новой школе почти не было. Все произошедшие в моей жизни изменения смущали меня и сбивали с толку. Эти первые два года в Ковно я чувствовала себя очень одиноко.
Одним из самых моих больших удовольствий во время жизни в Ковно стал каток — «ciuozykla» по-литовски. Всего катков, на которые я ходила, было два. Один находился по пути в школу — и я ходила туда два раза в неделю. Второй был на другом конце города — и там я каталась много реже. Я очень любила надевать свой костюм для катания и выписывать на льду восьмерки и другие фигуры. До сих пор, когда я попадаю в город, где имеется каток, и если у меня есть на это время, я беру напрокат пару коньков и возвращаюсь в свое детство, на «ciuozykla»!
В Ковно здание оперы с его куполом было вторым моим источником радости. Это здание казалось самым красивым из тех, что мне довелось увидеть. Родители часто брали меня с собой, чтобы я могла услышать пение великого Кипраса Петраускаса. Никакое совершенство, которое я могу услышать сегодня, не в силах соперничать с волшебством его голоса, с восторгом, который охватывал меня при звуках великой музыки. Незабываемые впечатления!
Мы жили достаточно безмятежно после того, как Литва стала частью Советского Союза. Что более всего сохранилось в памяти, это русские женщины, чья одежда для меня выглядела смешной и нелепой. Иногда они надевали на себя вместо платья нечто, похожее на ночное белье. С едой были затруднения, но режим, установленный Советами, в общем, не был гнетущим. Насколько я это помню, мы не были напуганы этой властью, которая, казалось нам, существовала где-то вдали.
Но в июне 1941 года наша жизнь изменилась. Мы узнали, что советская власть приняла решение о депортации всех «буржуазных» еврейских семей в Сибирь, и наша семья значилась в этом списке. Даже теперь при слове «Сибирь» во мне просыпается былой страх. По мнению отца, невозможно было вообразить себе судьбу худшую, чем отправка в Сибирь. Мы были много наслышаны о нечеловеческих условиях в тамошних трудовых лагерях. Отец был уверен, что мама не выдержит суровой сибирской зимы из-за сердца — ее болезнь была результатом болезни, перенесенной в детстве. А что могло ожидать его самого, утонченного человека, которому за сорок, никогда не занимавшемуся в жизни никаким тяжелым физическим трудом? Работа на лесоповале? Точно так же Манфред и я. Двое изнеженных еврейских подростков — нам никогда бы не выжить в грубом мире этого отдаленного места. Единственное, что нам оставалось, — это бегство. Все было приготовлено для нашей эмиграции в Шанхай, но события развивались слишком стремительно, депортация в Сибирь была неминуемой.
Читать дальше

![Анастасия Крюкова - Завтра не наступит [СИ]](/books/28649/anastasiya-kryukova-zavtra-ne-nastupit-si-thumb.webp)