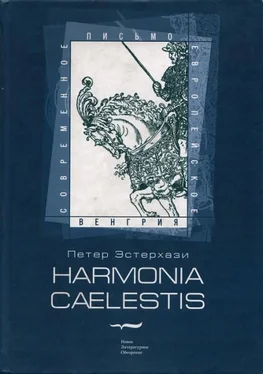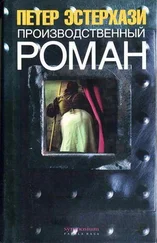На самом деле мать мало что поняла. Она ждала по-своему, с ужасом, и вся глубина того ужаса, вся до последней капли, передавалась нам. (Есть две разновидности ожидания: одна порождает страх, другая — унижение. Испытывая первую, человек боится за близкого, или за себя, или за обоих, или — реже — за что-то еще. Испытывая вторую — переживает унижение. Тетя Клотильда говорила о первой разновидности ожидания, а моя мама на деле переживала вторую.)
Лишь поздно вечером она успокоилась, от нее повеяло таким покоем, как будто Мамочка присоединилась к движению хороших братиков. Между тем хорошим братиком невозможно быть слишком долго. Как невозможно долго сидеть под водой. Собственная доброта — это еще куда ни шло, но когда наблюдаешь сияющее натужным гуманистическим румянцем лицо противника, когда и дел-то всего — воздвигнуть из кубиков некоторую конструкцию, то волей-неволей в тебе пробуждается жажда в ту самую минуту, когда брат твой с триумфом готовится водрузить треугольную крышу на вершину построенной башни, еле заметным движением выбить из основания башни нижний кубик. Братец твой, понимая, что мир сей погряз в грехе, разумеется, знает, что сам по себе нижний кубик с места не сдвинется, для этого кто-то умышленно должен его сдвинуть, и потому в диком грохоте рушащейся конструкции, от которого наша матушка содрогается, как от удара грома, умудряется на лету ухватить падающий кубик и нацелиться им прямо в щиколотку злоумышленника, но тот наносит ему упреждающий удар ногой, ну и понеслось; короче, пока башня разваливается на куски, слышны крики и вопли, «как будто кого-то режут».
В таких случаях один из нас легко получал затрещину. Если конкретно — ее получал мой братишка. В любой хоть сколько-нибудь спорной ситуации затрещина, будь то рациональная и практичная материнская или редкая, но всегда значительная, обладающая, я бы сказал, высшим смыслом отцовская, непременно доставалась ему. Причина отчасти состояла с том, что он был и в самом деле подвижный ребенок, «шкода» и «бедокур», отчасти же — в том, что мину хорошего братика я умудрялся удерживать на долю секунды дольше, чем он.
— Подлый Яго, — подводила итог Мамочка, однако распределение затрещин от этого не менялось.
Мало-помалу мы привыкли к тому, что на извечный следовательский вопрос «кто это сделал?» почти машинально называли младшего брата, который подчас, в соответствии с истиной, пытался оправдываться, отрицать, защищаться, приводить какие-то аргументы, спорить, оказываясь во все более жалком и безнадежном положении, что я констатировал с презрительной усмешкой: этот несчастный еще унижается в попытках найти оправдание, вместо того чтобы с гордо поднятой головой признать свой поистине мерзкий поступок! Самое интересное, что младший братишка не обижался на выпадавшие на его долю несправедливости, а напротив, сносил их даже с некоторым достоинством и гордостью. Впоследствии, когда я напомнил ему об этом, он только пожал плечами. Хороший братец.
180
Еще до того как кому-либо из хороших братиков, включая и нашу Мамочку, пришло в голову дотронуться до воображаемого, но всегда существующего нижнего кубика, в дом, как бывало прежде, ворвался Роберто (и уж он-то поддал этот нижний кубик самым грубым, бесцеремонным способом, башмаком, — и все, что только могло, беззвучно рассыпалось на куски).
Я сразу понял, что он привез новости об отце.
— Ах, Миклош! — бросилась ему на шею Мамочка. Он обнял ее и, покачивая, слегка задержал в объятиях. Мать всегда так встречала его, но не всегда была такой перепуганной, а кроме того, для полноты картины недоставало отца, который с ухмылкой смотрел на него и разыгрывал нетерпение, когда же и он сможет обняться наконец с другом.
На сей раз объятие было только одно.
С нами он поздоровался с сакраментальными шуточками: юные графы, контесса, дорогой майореско — все как обычно. Братишка в ответ только ухмылялся, я сиял от восторга, сестренка молчала.
Когда он склонился, чтобы потрепать меня по щеке, я почувствовал, что он выпил. Отца я даже про себя никогда не называл пьяным. Выпивши, подшофе, на взводе, навеселе. Такие слова приходилось слышать. Да еще: «Матяш, в каком вы виде!» Когда отец напивался, матери было стыдно за него. Потом это прошло, и ей было стыдно уже только за себя, но позднее уже никто и ни за кого не стыдился, оставалось одно — как-то все это вынести, пережить. Однако прошло и это.
— А ну повторите! — вскричала вдруг мать на кухне. Они часто дурачились, но на сей раз это была не игра. Роберто что-то прогудел ей своим виолончельным голосом. — Вон отсюда! — крикнула задыхаясь мать.
Читать дальше