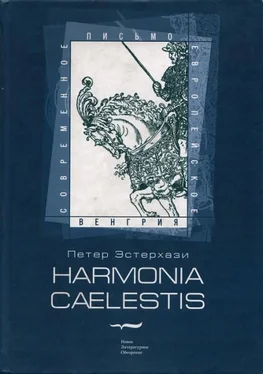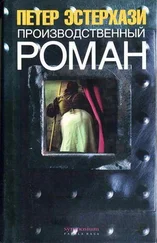— А то как же, конечно, — не задумываясь бормотал отец, но мы видели, что он сам не знает, что говорит.
— Потому что, Папочка, если немых львов нет на свете, то есть в природе, тогда нет и нас, и игры такой нет! Ведь не может же человек быть плодом собственного воображения! — отчаянно сверкала на отца глазами сестренка; отец же, как обычно, закрывал дискуссию своей знаменитой всеведущей улыбкой, смысл которой сводился к тому, что на этот вопрос в свое время нам придется найти ответ в своем собственном кладезе (этот кладезь нам очень нравился: ну и кладезь же у тебя, старик, ну и тыква! и прочее), может, в этом правда, а может быть, в том, а может, ни в том, ни в другом, а в чем-то третьем.
Мы любили и не любили эту отцову улыбку. Не любили, потому что хотели на все получить ответ. Простые ответы на простые вопросы: кто хороший, кто плохой, где и когда можно наконец поговорить с Боженькой, но так, чтоб по-настоящему, без обмана, словом, многого мы не требовали — ясности, однозначности, а не этой хитрецкой улыбки. Но мы и любили ее, потому что в такие минуты мы замечали на лице родителя какой-то особенный интерес, внимание и волнение, как будто не мы, а он хотел что-то узнать от нас, бедняга.
Иногда нам давали поблажку, и объявлялась «десятипроцентная тишина».
— Немая из Портичи, — возглашала вдруг Мамочка, никто этого не понимал, но означало сие — разрешение тихо рычать. По рычанию пальма первенства принадлежала Папочке, из груди его, из самой глуби, волнами вырывался клокочущий, сдавленный рык, такой piano, что сошел бы даже за пятипроцентную тишину, но он наводил на нас неописуемый ужас, и мы тут же бросались к Мамочке.
В худшем случае мать выглядывала из кухни и бесстрастно велела отцу не пугать детей. В лучшем же обрушивала нам на головы тяжеленные передние лапы, выпускала — на диво природе! — свои убийственные красные когти, холодно отталкивала нас от себя, хрипела, подергивая ноздрями, и обнажала жуткие, как у всех львиц, верхние клыки — от страха у нас дрожали поджилки.
До чего же нам нравилось испытывать этот страх!
— Папа, Папочка, помоги! В кухне львиная львица! — и бросались к отцу искать защиты, обхватывали его ноги, как будто это стволы деревьев, за которыми мы могли спрятаться. Но не тут-то было! То были не стволы, а могучие лапы величественного и проголодавшегося царя зверей! Мы бросались назад. — Ой, Мамочка, дорогая!..
И не могли знать наперед — что и было самым волнующим, — окажемся ли мы в отчаянном положении меж двух огней, или Мамочка неожиданно повернется к нам (ей тоже, как тете Рози, приходилось подолгу простаивать у плиты) и, очаровательно разыгрывая заботливую мать семейства, начнет театрально нас успокаивать, о дети мои, успокойтесь же, откуда здесь львы — вы ведь знаете, львы обитают в Африке, — а затем, нежно обняв нас, все же угрожающе рыкнет, мы готовы бежать, но она не пускает, вновь обращается в нашу прелестную Мамочку и, пристально вглядываясь в наши лица, произносит слова, которые мы слышали только от отца:
— Ну что, сорванцы? Мир не прост?
176
Отец играл с нами редко, его трудно было включить в игру. Что мы считали естественным и тем более радовались, когда удавалось его на что-то подвигнуть. Да хотя бы на то, чтобы он подбросил и поймал меня в воздухе! Иногда мы просили его об этом, уже будучи «здоровенными лбами». Но самым любимым номером был, конечно, «Папаша маленькой Мистике»! (Кто была эта Мистике? Может, Mistake, недоразумение? Маловероятно.) А игра заключалась в следующем: мы забирались на тумбочку, или комод, или даже на стол! («может, все-таки не в ботинках!»), раскланивались с публикой, число зрителей, впрочем, значения не имело, и делали знак унтерману, который официально объявлял номер.
— А теперь, дамы и господа, — он откашливался, чтобы все присутствующие, число которых значения не имело, могли проникнуться значительностью и рискованностью момента, — на арене «Папаша маленькой Мистике!!!» — И мы прыгали в воздух, откуда наш Папочка, унтерман, нас вылавливал. Мамочке эта игра не нравилась.
Были игры, которые нам тоже не нравились, например ночная игра во львов. Когда Папочка возвращался ночью под градусом, то, бывало, в зависимости от степени градуса, у него возникало желание поиграть. Его мало что волновало, он будил нас.
— Саранча! Собаки! Подъем! Родина ждет вас!
Упрашивать его было бесполезно, он был неумолим. Плач только обострял ситуацию. В таких случаях действительно нецелесообразно делать что-либо, кроме того, чего требует он. Хотя начинается все неплохо — не считая того, что мы сонные, — он мечется между постелями, hie sunt leones, hie sunt leones [152] Здесь львы, здесь львы (лат.).
, раздувает ноздри, принюхивается, играет, это здорово, потому что забавно, и все бы хорошо, если бы мы не боялись, но мы боимся, хотя он и в самом деле играет.
Читать дальше