Холля, как и прежде, считали принадлежностью хозяйского владения, хотя в кадастре он не значился, а был лишь внесен в список соцподопечных, однако в разговорах как-то само собой подразумевалось, что его тело и мускульная сила — собственность усадьбы 48 и никто не имел права оттягать у хозяина это молодое тело, отобрать какую-то часть его имущества, а он все не хотел признавать, что Холль обладает собственным телом, что все яснее и яростнее дает понять хозяину: оставь же меня, наконец, в покое. Не имеет хозяин права на его тело, никогда не имел. Он просто присвоил его себе, как когда-то дед поступил с Морицем. Помимо тела, были голова и глаза, глаза Холля видели тело Морица, под которым все больше подгибались колени, и в доме поговаривали, что он уже никуда не годится. Нечто вроде ковыляющего распятия, от которого желают избавиться. Вся жизнь в хозяйском концлагере, а теперь лишь кожа да кости, полупереваренная пища вываливается прямо в штаны.
Под палящим солнцем на возах с сеном Холль не один час допытывался у хозяина, есть ли какой смысл в том, чем живут на усадьбе 48? Ответа он не получил. Весь мрак, который уже сгущался вокруг него, с одной стороны, забавлял Холля: вся его дальнейшая жизнь мыслилась здесь только на тракторе, а с другой — немного кружило голову, стоило ему подумать о том, что, возможно, он все же найдет место ученика.
Потом появилась еще и мысль обратиться в газету. Полицию он исключал, поскольку не мог себе представить, чтобы начальник участка из-за него лишил себя бесплатного мяса, кроме того, история с Биндером все еще была для Холля как кость в горле. Епископа тоже нельзя принимать в расчет. "Разбежится епископ хлопотать насчет места, если меня священник проклял! Раз такое дело, то и Папа Римский не поможет. Соцопека исключена. Бургомистр тоже, он приятельствует с хозяином. Но как же пробиться в газету?" Он поехал к Клейну и спросил, не может ли помочь профсоюз. Если в скором времени не удастся найти место ученика, Холль готов обратиться в газету. А то гоняют, как собаку, хватит, надоело.
Они отправились к вильдбахским баракам. Герман рассказал Холлю, чем это может грозить. Профсоюз, объяснил он, служит только для подстраховки. За свои права человек борется сам.
— Клюнут ли на это дело газеты? — размышлял вслух Клейн. — Впрочем не исключено.
Но в вильдбахской столовке он вновь усомнился в том, что газеты вступятся за Холля, ведь их и самоубийства-то не очень волнуют. Бок о бок с ними за бутылками пива сидели крепкие мужики. А не хотел бы он для начала поработать на железной дороге, а через пару лет пойти в ученики? Это предложение никак не заинтересовало Холля. Не будет он гробить еще два года. Скорее уж раздобудет ружье и превратит в решето всю усадьбу. Его мечтания принимали уже боевой характер.
У Холля голова от счастья идет кругом, ведь в тот же день он договаривается с одним молодым мастером и с трудом верит, что в жизни может случиться такое, он снова говорит с Кофлером. И его удивляет не столько то, что Кофлер передает ему место ученика, сколько отношение мастера, который берет его сразу, без сомнений и колебаний.
Он одолжил у Кофлера старый фибровый чемодан, прошелся с ним по Хаудорфу, долго стоял у окна комнаты, оглядывая хлева и конюшни. Он видел внизу хозяйку с ведрами, шедшую поить свиней, слышал знакомые голоса, все звучало так ясно, будто он погружался в безвоздушное пространство. Грубошерстные штаны, в которых он проходил зиму, носки, рубашки, брюки, тужурки.
Недолгая езда на мопеде. Добрые лица. Он вошел в старый дом, который не раз видел во время процессий, поднялся по лестнице, вывалил пожитки на кровать и вместе с Кофлером поехал назад. Он сунул в чемодан все, что осталось, и замер, будто пытаясь отыскать потерянные годы своей жизни, будто забросил их когда-то куда-нибудь в угол или повесил на гвоздь. Он остановил прощальный взгляд на деревянной хибарке и на дисковой пиле и простился с сонмом пронесшихся здесь мыслей о людях и вещах, но не проронил ни слова. Холль медленно спустился к усадьбе, через сени прошел на кухню, жал руки детям и взрослым и готов был до конца догрызть собственную душу. Эти убийственно холодные, насмешливые, рвущие сердце глаза.
На дворе был вечер, и стоял октябрь. Холль бежал по Хаудорфу, и, когда поравнялся с воротами, по щекам покатились слезы. Немного постояв, он пошел дальше, и ему казалось, что голова волочится на веревке следом за ним, а язык лижет дорожные камни. Впереди — пустота, позади — развалины. Он ухватился рукой за изгородь и вырвал несколько кольев, у Штраусихи уволок часть поленницы и побросал дрова в ручей, пусть себе померзнет да поменьше болтает.
Читать дальше


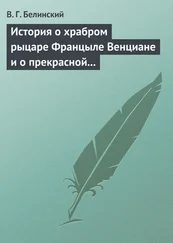


![Кирилл Чекалов - Популярно о популярной литературе. Гастон Леру и массовое чтение во Франции в период «прекрасной эпохи» [litres]](/books/430236/kirill-chekalov-populyarno-o-populyarnoj-literature-thumb.webp)






