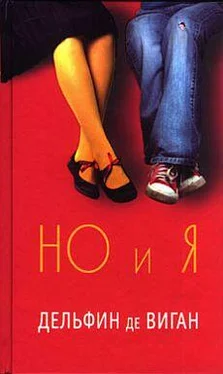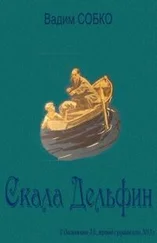Мама заболела. Мы беспомощно наблюдали, как она все больше удаляется от нас, неспособные как-то помочь или удержать, мы протягивали руки и не могли дотронуться до нее, кричали, но она не слышала нас. Она перестала разговаривать, вставать. Целыми днями она оставалась в постели или сидела в большом кресле в гостиной, дремала перед включенным телевизором. Иногда она гладила меня по голове или по лицу, но взгляд ее был устремлен в пустоту; иногда она сжимала мою руку просто так, без причины; иногда целовала меня в сомкнутые веки. Она больше не ела вместе с нами, не занималась домом. Отец разговаривал с ней часами, иногда даже сердился, до меня доносились его крики из их спальни, я старалась понять, о чем он говорит, о чем умоляет ее; ночами я прижималась ухом к стене, засыпала в этой позе и просыпалась, когда мое тело падало на кровать.
Следующим летом мы отправились на море с друзьями родителей. Мама почти не выходила из дома, ни разу не надела ни купальник, ни сандалии с большим цветком посередине, кажется, она ходила в одной и той же одежде все дни, если только она вообще одевалась. Тем летом было особенно жарко, какая-то влажная липкая жара, мы с отцом старались веселиться — как раньше на каникулах, — но у нас не очень-то получалось.
Теперь-то я знаю, что невозможно избавиться от картинок прошлого и еще меньше от пустоты, которая поселяется у вас внутри, невозможно избавиться от воспоминаний, которые будят вас по ночам или на рассвете, невозможно избавиться от криков, раздающихся у вас в памяти, и еще менее — от царящего в ней молчания.
Потом, как и каждый год, я отправилась на месяц в Дордонь, к бабушке с дедушкой. В конце лета отец приехал за мной и сказал, что нам нужно серьезно поговорить. Маму поместили в специальную больницу для тех, кто страдает тяжелой формой депрессии, а меня записали в специальный колледж для одаренных детей, в Нанте. Я спросила, какое специальное заведение он подобрал для себя. Он улыбнулся и покрепче обнял меня.
В Нанте я провела четыре года. Когда я думаю об этом теперь, это кажется очень много, то есть я хочу сказать, когда считаешь — один, два, три учебных года, каждый год — примерно десять месяцев, каждый месяц — тридцать или тридцать один день, то это кажется невероятно долго, и я еще не сосчитала часы и минуты. Но между тем время было спрессовано и пусто, как чистая страница, — не то чтобы у меня не осталось о нем воспоминаний, но все они какие-то блеклые и размытые. Я возвращалась в Париж на выходные раз в две недели. Вначале я ходила в больницу к матери — сердце, завязанное узлом, и живот подводит от страха, — у нее были остекленевшие, как у мертвой рыбы, глаза, застывшее лицо, она смотрела телевизор в общем зале, издалека я узнавала ее сгорбленную фигуру, дрожащие руки, отец старался меня успокоить, это, мол, из-за лекарств, которые она принимает, побочные эффекты и все такое, но врачи говорят, что она идет на поправку.
Потом ее выписали, и они вдвоем приходили встречать меня на вокзал Монпарнас, ждали в конце перрона. Я старалась привыкнуть к ее новому силуэту — неподвижному, сломленному, мы машинально обнимались, отец подхватывал мою сумку, и мы шли к эскалатору, я вдыхала полной грудью воздух Парижа, втроем мы садились в машину, а на следующий день они провожали меня обратно, время пролетало стремительно, и мне пора было уже возвращаться.
Недели напролет я мечтала, что однажды в воскресенье отец скажет — так дальше нельзя, ты никуда не поедешь, это не дело, что ты так далеко от нас; или он развернет машину на полпути к вокзалу. Недели напролет я мечтала, что на последнем светофоре или даже на вокзальной парковке он скажет: «Это — абсурд какой-то», или «Это просто смешно», или «Это очень больно».
Недели напролет я мечтала, что отец вдруг резко нажмет на газ и мы врежемся в бетонную стену вокзала, оставшись навсегда втроем.
Наконец однажды я вернулась насовсем, вновь обрела Париж, спальню того ребенка, которым я больше не была, я попросила родителей записать меня в самый обычный колледж для обычных детей. Мне хотелось, чтобы жизнь стала прежней, когда все казалось таким простым и происходило само по себе, я хотела, чтобы наша семья ничем не отличалась от других семей, в которых родители произносят больше чем четыре слова за сутки, а дети не проводят все свое время, задавая себе страшные вопросы. Иногда я говорю себе, что Таис тоже была сверходаренной, именно поэтому она так быстро смоталась отсюда — поняла, что за мучения ее ждут здесь, и против них нет никакого лекарства. Я хотела только одного — быть как все, я завидовала их спокойствию, их смеху, их жизни. Я уверена, что у них есть что-то такое, чего мне недостает, я долго искала слово, обозначающее одновременно беззаботность, легкость, уверенность и все такое, я бы вырезала его и наклеила бы в свою тетрадь, слово крупными буквами, как посвящение.
Читать дальше