Это я говорю о Розелле Хардкасл.
В те первые недели Розелла была на уроках латыни явной звездой, какой, вероятно, должна была быть всегда и везде: ведь она только что перепрыгнула через класс, догнав меня. Но потом, недель через шесть или около того, начали сказываться результаты моих предшествовавших неофициальных занятий, и я тоже стал звездой. Во время уроков я часто ловил ее взгляд, устремленный на меня, — пристальный, долгий и задумчивый. Помню, как она пытливо рассматривала меня с другого конца класса, — чуть опустив веки, чтобы приглушить аметистовое сияние глаз, и крепко, иногда, наверное, до боли, прикусив полную, но не слишком, влажную, розовую нижнюю губу безукоризненно белыми и правильными верхними зубами.
Впрочем, к Рождеству я был освобожден от занятий латынью. Мисс Макклэтти выпытала у меня, что я втайне от нее давно уже худо-бедно одолел и хрестоматию, и Цезаря. После этого Розелла осталась на уроках латыни единственной звездой и могла наслаждаться этим, сколько душе угодно.
Розелла была рождена, чтобы стать звездой — и не только на уроках латыни. К восьмому классу она была, вне всякого сомнения, королевой красоты дагтонской школы, и, хотя в этой роли она держалась скромно, на самом деле это была не скромность, а снисходительная небрежность, как будто она знала, что быть первой в этой захолустной иберийской деревне — ничто по сравнению с тем, что ждет ее в Риме. Она невозмутимо проходила по коридору, всегда сопровождаемая одной из девочек, потому что при ней обязательно находилась какая-нибудь ее официальная фрейлина, преданная, понятливая и хотя и не пользовавшаяся особыми привилегиями, но гревшаяся в лучах ее очарования и получавшая в награду крошки с ее стола — то есть общество какого-нибудь мальчика из окружения Розеллы, потому что так уж было заведено: кто не хотел проявлять внимание к ее «лучшей подруге», тому рядом с ней места не было.
Обняв друг друга за талию, наклонив друг к другу головы и поглощенные неспешной интимной беседой, Розелла и ее лучшая подруга шествовали по коридору, а мальчики, состоявшие при них, косяком шли рядом и позади, притихшие, исполненные благоговения и тихой радости и преображенные исходившим от нее сиянием. Каждый из них знал, что ему никогда не уткнуться лицом в эти благоуханные каштановые, местами с золотистым отливом, словно выцветшие на солнце, волосы, разделенные посередине аккуратным пробором и обрамлявшие ее высокий чистый лоб. Что ему никогда, даже на мгновение, не положить руку на одну из этих уже созревающих, изящно обрисованных грудей, хотя во время танцев одна из них иногда слегка задевала его, вызывая внезапное и голокружительное ощущение наготы, словно ничем не прикрытый сосок проводил, как одним движением карандаша, тонкую и сразу обрывающуюся линию по его беззащитной коже. Что ему никогда не поцеловать эти губы.
Хотя тогда я был с ней почти не знаком, сейчас я понимаю, что она была необыкновенно хороша собой; а шестнадцать лет спустя она стала еще красивее. Эти шелковистые волосы с солнечным отливом остались теми же, и причесывала она их так же — с пробором посередине и двумя строгими волнами по обе стороны лба, оттеняющими совершенство его линий; но при всей строгости ее прически можно было заметить, если вглядеться получше, нежные завитки на висках, как будто чуть увлажненные каким-то невидимым испарением гладкой кожи, прохладной на вид, словно роса, но наводящей на мысль о влажной плоти, которая не всегда так росисто-прохладна, но может источать и жаркое благоухание страсти, когда эта прядь волос, намокнув, потемнеет и прилипнет к разгоряченной щеке.
Шестнадцать лет спустя Розелла все еще сохранила ту же способность подолгу молчать, сидя в глубокой задумчивости или склонившись к собеседнику, своей позой и своим молчанием придавая его словам серьезность и даже интимность. Она по-прежнему умела так опускать веки, чтобы усилить впечатление, производимое ее красиво очерченными глазами и пушистыми ресницами. Но стоило ей поднять веки, как ее сияющий в полную силу взгляд неизменно поражал, словно внезапный порыв радости или неожиданный удар.
Теперь, задним числом, надо сказать, что завораживающее очарование Розеллы объяснялось именно этой волнующей двойственностью, которую я только что бессознательно пытался передать: с одной стороны, чистый лоб, строго зачесанные назад волосы, опущенные глаза, дар молчания, даже ощущение одиночества, а с другой — мысли, на которые наводили эти влажные завитки у висков и неожиданное сияние широко открывшихся глаз. С поправкой на разницу эпох и мест действия и на различие между живописным изображением и живой плотью можно сказать, что она оказывала примерно такое же действие, какое портрет, изображающий предположительно Беатрису Ченчи и одно время приписывавшийся Гвидо Рени, — портрет, где религиозность времен контрреформации странно переплетается с намеком на кровосмесительные постельные забавы, — оказал на пропитанные пуританским духом Новой Англии половые железы Натаниеля Готорна.
Читать дальше
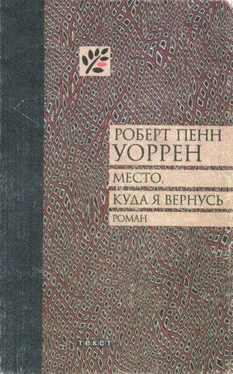





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
