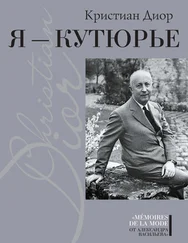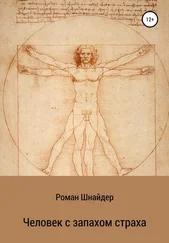Однако в то лето, когда Ланг познакомился с Саритой, да и весь предыдущий год, он все чаще чувствовал себя изможденным и как бы выпотрошенным. Он говорил мне, что ему было все труднее общаться с людьми. Вернее, поправился он, не труднее, а безрадостней, словно про себя он понял: не важно, едет ли он к стареющей матери, ужинает с сыном, обедает с одной из бывших жен или спит с очередной незнакомкой, — настоящего общения между людьми больше нет, все это лишь посредственная мыльная опера, написанная посредственным сценаристом, унылая мешанина из картонных персонажей и скучных, банальных реплик. Все чаще, рассказывал Ланг, без особой причины его вдруг охватывала глубокая печаль, к горлу подступам комок и нутро заполняла свинцовая тяжесть. Когда пришла весна, он привычно поглядел на обнаженную красоту полусонного города и восхитился изысканностью вечернего белого света, который превращал дома Ульрикасборга и Эйры эпохи модерна в мерцающие сказочные дворцы. И все же, несмотря на это великолепие, в ту весну душа Ланга оставалась пустой и мертвой, и он впервые в жизни нашел красоту Гельсингфорса строгой и неприветливой, будто сутолока шпилей и башен, черных и зеленых крыш в старых кварталах города была тронута холодом и отчуждением, а город захлопнулся, как моллюск, скрыв в себе свою забытую историю. Лангу беспричинно хотелось плакать, словно северная весна и вся эта новая жизнь не принимали его шаткого мироощущения, словно свет взывал к глубинным потаенным чувствам и высмеивал слабость и отсутствие воли. Воли к чему? — спрашивал себя Ланг, делая все возможное, чтобы скрыть от окружающих свою уязвимую душу. Он ходил на встречи с издателями и продюсером, не спал по ночам, пытаясь начать наконец новую книгу, добросовестно записал последние передачи сезона, так что его нельзя было заподозрить ни в слабости, ни в неуверенности. Кроме того, он давал интервью в прессе и даже принял участие в телеигре «Что нового?» в одной команде с поэтом Таберманом. И до последнего сохранял маску иронии и сдержанной любезности, маску, к которой привыкли окружающие и которая так ему шла. Но когда наступившее лето избавило его от работы и записей в ежедневнике, на него навалилась усталость, справиться с которой было уже невозможно. Ланг спал по девять часов в сутки, однако не испытывал никакого желания вставать по утрам. Он не отвечал на телефонные звонки, выключил мобильный телефон и не прослушивал автоответчик городского телефона. Ближе к июлю он перестал вскрывать письма, которые сыпались на коврик перед дверью (его пугало их содержимое, и удивительно, но похвала теперь причиняла ему столько же боли, что и критика), а электронную почту не проверял уже почти месяц. А потом, в те долгие недели, проведенные в одиночестве, когда Ланг сидел за компьютером, катался на велосипеде и искал Сариту, рассудок начал изменять ему. У Ланга появились симптомы мании преследования. Когда он разыскивал по барам Сариту, ему казалось, что, глядя на него, люди перешептываются.
— Это Ланг, но какой же он замотанный! — слышалось ему.
Другой голос говорил тихонько:
— Ланг сильно сдал, в нем нет уже прежнего куража.
И третий:
— Кажется, зимой у него сильно упал зрительский рейтинг?
Ланг пытался прятаться от этих голосов. Он скрывался в обрывках старых зрительных образов и мелодий, которые в ту весну и лето начали мелькать у него перед глазами и звучать в голове; это были очень старые образы и мелодии — из детства и ранней юности, и в них присутствовали отец и мать, старшая сестра, тогдашние приятели, девушки, в которых он был влюблен. Однако иногда все эти люди казались настолько чужими, а сценография и музыка такими незнакомыми, что Ланг сомневался: может, это не его воспоминания, а какой-то фильм, который он видел давным-давно.
В ту первую ночь у Сариты Ланг после нескольких месяцев молчания предавался ностальгическим воспоминаниям. Около двух часов ночи они вылезли из постели и, завернувшись в одеяла, снова сели за стол. Пока они пили кальвадос и ели запеканку, купленную Саритой в супермаркете, Ланг рассказывал ей о далеких временах, когда деньги нельзя было получить через дырку в стене — надо было успеть в банк до четырех, а иначе останешься без средств к существованию, поскольку кредитные карточки и чековые книжки были привилегией богачей. Он рассказывал, как люди общались друг с другом до эпохи автоответчиков, мобильных телефонов и электронной почты, что некоторые просто не отвечали на звонки, их невозможно было разыскать, и приходилось ждать по нескольку дней, а порой недели или месяцы, пока они не вернутся из своих дальних путешествий.
Читать дальше





![Чель Болюнд - Неизвестная Астрид Линдгрен - редактор, издатель, руководитель [litres]](/books/391780/chel-bolyund-neizvestnaya-astrid-lindgren-redaktor-thumb.webp)