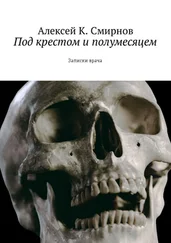Я имею в виду эпизод, когда доктора Смирнова бросают за борт за то, что он обозвал червивое мясо свежим. Как будто он мог выбирать! Какое погрузили, такое и принял. Попробовал бы он вякнуть. Глаза испортил, червей этих высматривая, пенсне носил. Но доктора бросили за борт, а он еще пытался лицо не потерять.
Сила режиссерского гения еще и в том, что он заранее сделал доктора Смирнова архетипическим, заведомым вредителем на все времена. Такая подлая рожа! Это был общий, универсальный доктор Смирнов, неистребимый враг народа, который, не брось его кто за борт, отравил бы Горького, Крупскую, Жданова, Брежнева, Андропова, Устинова, Черненко и Хаттаба.
Он бы точно все это сделал, не окажись за бортом. Я это как доктор Смирнов подтверждаю.
Помню, на четвертом курсе старенький мухомор читал нам лекцию про гонорею, показывал слайды – ведь до сих пор держится в голове! «Как распространялась гонорея? – спрашивал старец и сам отвечал: – В особых салонах кавалеры миловались с дамами…»
Щелкал проектором, на экране возникал преувеличенный гонококк, потом еще что-то, а на закуску – переснятая гравюра. Некто, похожий на герцога Бекингемского, не снимая шляпы с пером, держит за коленку, сквозь пышное платье, даму, а та прикрывается веером. «Так… ну, а вот это… – задумался мухомор, – вот так, стало быть, происходило милование».
Я часто пишу о монстрах.
Жил такой очень хороший доктор Рудин, по имени-отчеству Бронислав Васильевич.
Это был доктор Астров нашего времени, выросший из Ионыча и в Ионыча же превратившийся. Работал в нашей районной поликлинике, где лечил дедушку (совокупного и моего), бабушку (совокупную и мою) и меня.
Доктору Астрову было хорошо. Ему и спивалось-то легко под соловьиные песни, под сверчка, под перебор гитарных струн. А доктору Рудину спивалось тяжко, по-звериному, пещерно. К нему приходил совокупный дедушка и приносил бутылочку водки. Я не приносил, но от меня приходил персональный дедушка и приносил бутылочку водки в благодарность за меня.
Он был очень добрый, тот Бронислав Васильевич, огромный, неряшливый, чуть суетливый, сильно близорукий, поросячий лицом. Выбрасывал свою тушу из-за стола и метал ее к коечке, где я лежал, обнаживши живот образца третьего курса мединститута. Доктору Рудину было понятно, что мне не хочется ехать в колхоз. Поэтому я и болен, а он ведь не только Рудин, но и доктор, а значит, должен лечить не болезнь, а больного.
– Ну, для порядку, – говорил доктор Рудин и трижды бил меня в живот тремя твердыми холодными пальцами. Этот диагностический прием остался мне непонятным по сей день, но я все равно не раз применял его, и всегда с поразительными результатами.
– Ну, на хронический я тебе натянул, – вздыхал доктор Рудин, уже запрыгнувший за стол обратно. – Приходи через три недели, там чего-нибудь сочиним.
Дедушка сочинял бутылочку.
– С Алексея, с Алексея надо бы, – весело щурил Рудин свиные глазки и прятал бутылочку в стол.
Потом он шел по квартирам и возвращался поздно.
Однажды я видел его в полночном троллейбусе. Доктор Рудин ронял портфель. По странному капризу памяти он узнал меня, сложил кисти в замок, насупился, выпятил толстые губы и стал кивать: мол, все путем у нас будет, Алексей, все у нас под контролем. Но говорить он не мог, ему мешали алкогольные пузыри.
Он был один мужского пола среди стервятниц, терапевтических баб, и те, у которых дома водились свои рудины, его бессердечно и наверняка заклевали. Его уволили, и эта широкая, пошатывающаяся спина растворилась в очередных сумерках – то ли памяти, то ли августовских.
Я ему очень благодарен. Его любили. Вряд ли он живой, хотя я надеюсь.
Сегодня последний день августа, лета 2004 года. И надо писать подобающе, да вспомнить про Августу, бабулю, много лет проработавшую в одной из больниц, числа которой не назову. Ни числа больницы, ни бабули.
Итак, Августа. Лет семьдесят при вероятном плюсе и не столь вероятном минусе. Одутловатое лицо буфетчицы, в которой навеки уснула совесть. Заплывшие глазки. Рост был бы миниатюрным, но прилагательное неуместно из-за совокупного объема Августы. Халат ниспадает балахоном, весь в заплатах; рукава закатаны, сдобные локти скрещены на размытой грудобрюшной границе, где спит нерадивый, одинокий часовой в полосатой будке. Синие треники с лампасом, тонкие короткие ножки, пузо, плоскостопие. Талия – в области шеи, и то маскируется десятикратным подбородком. Брови насуплены.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу