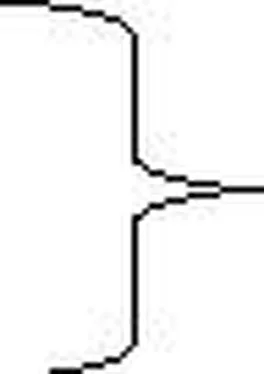Не что иное как боль отдельного человека разрушило тот священный порядок, от которого все мы происходим, порвало нити, натянутые между звездами и человеческими путями. Но почему страдания победили слово? Как возникла эта потрясшая небо революция? Почему ставший одиноким человек ощутил вдруг, что принцип несправедливости ополчился против него? Один язык, более близкий нашему, чем древнеегипетский или китайский, выдал этот секрет. В вавилонской поэме о сотворении мира мы читаем:
Времена выросли и удлинились.
А предшествовали этому священные эпохи становления, лишенного боли: времена богов и их прародителей.
Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Ансý первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиáмат, что все породила,
Воды свои воедино мешали.
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Тростниковых зарослей видно не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено,
Тогда в недрах зародились боги,
Явились Лахму и Лахаму и именем названы были.
Времена выросли и удлинились :
Тогда родились Аншар и Кйшар.
Дней стало много, года умножились.
Неподражаемо удалось здесь слову описать время.
Это - пробуждение самого искусства поэзии. Ей выносится приговор, что отныне ее судьба всегда будет связана с течением времени: ни один поэтический образ не сохранится неизменным на протяжении столетий. Позже у поэзии появится спутница, музыка - более дружелюбная сестра, способная оторваться от текущего времени и вознестись в поющие эмпиреи бесконечности. Поэзия же - самое земное из искусств, самое человечное, самое непритязательное, но и самое необузданное, загнанное в поток времени, дальше и дальше уносимое им от изначального божественного истока; прибежище для еретиков, обездоленных, бунтарей, буянов; скорее яростное оружие, чем нежная утешительница, скорее разрушительница, чем любительница покоя; поэзия черпает материал из звуков человеческой речи, впитывает оттенки каждого проходящего года и стоны, доносящиеся из подземного мира; она будто бежит, расточая себя, по единственному оставшемуся ей пути: по дороге человеческих страданий.
С гневом выпевается в «Эпосе о Гильгамеше» вечная жалоба на страдание, которое, однажды пробудившись, с тех пор отбрасывает мрачную тень на мир. Возникновение времени принесло живущим смерть. Смерть - это тот конец, с которым всегда кончаются и полномочия поэтического искусства, хотя каменные боги продолжают сидеть на тронах.
Как не впасть моим щекам, голове не поникнуть,
Не быть сердцу печальным, лицу не увянуть,
Тоске в утробу мою не проникнуть,
Идущему дальним путем мне не быть подобным,
Жаре и стуже не спалить чело мне,
Не искать мне марева, не бежать по степи?
Младший мой брат, гонитель онагров горных, пантер пустыни,
Энкиду, младший мой брат, гонитель онагров горных, пантер пустыни,
С кем мы всё побеждали, поднимались в горы,
Схвативши вместе, быка убили,
Погубили Хумбабу, что жил в лесу кедрóвом,
На перевалах горных львов убивали,
Друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили,
Энкиду, друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили, -
Его постигла судьба человека!
Дни и ночи над ним я плакал,
Не предавая его могиле, -
Не встанет ли друг мой в ответ на мой голос?
Шесть дней миновало, семь ночей миновало,
Пока в его нос не проникли черви.
Устрашился я смерти, не найти мне жизни.
Словно разбойник, брожу в пустыне:
Мысль о герое не дает мне покоя -
Дальней дорогой бегу в пустыне;
Мысль об Энкиду, герое, не дает мне покоя -
Дальним путем скитаюсь в пустыне!
Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любимый стал землею,
Энкиду, друг мой любимый, стал землею!
Так же, как он, и я не лягу ль,
Чтоб не встать во веки веков?
Тревога врывается в жизнь вместе с жесткими понятиями, она овладевает грезящим умом и навязывает ему более трезвый взгляд на факты. Шествие мира отныне уже не будет сопровождаться гимническими песнопениями. Первый же крик, донесшийся с пыточной скамьи, заставил завесу в храме раздраться надвое.----------
Скромно сидит поэт напротив сотворенного мира и лишь вслушивается - где поднимется буря и начнет громоздить высокие волны. Он теперь всего лишь предчувствующий , а не священнослужитель, которому все заранее известно; от его суждений веет большей усталостью, его самоуверенность иссякает; он уже готов признать, что не является тонким инструментом, гарантированно приводящим его же в болезненные точки мира.
Читать дальше