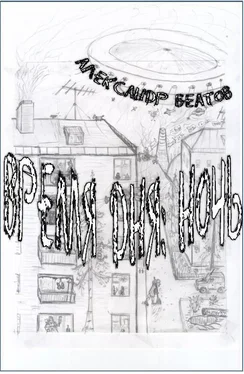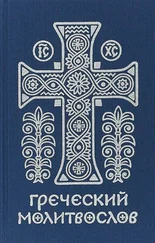Однажды мальчик ловил бабочек на пустыре. Сачка у него не было, и он выжидал, когда бабочка сядет на цветок, осторожно приближался и накрывал её ладонью. Каждый раз, когда он с замиранием в сердце приближался, бабочка успевала вспорхнуть и перелететь на другой цветок. Так, следуя за нею, мальчик оказался между двумя выпуклостями, в самой сердцевине бывшего Холма…
И вот… бабочка садится не на цветок, а на осколок от бутылки…
Мальчик с размаху накрывает бабочку ладонью — и вскрикивает от боли!
Из запястья фонтаном бьёт кровь… Мальчик бежит домой, к матери…
На всю жизнь на правой руке его будет рубец…
Так Холм начал мстить людям, оставляя следы памяти и на их телах…
Больше мальчик не приходил к Холму и не помнил уже точно, когда приехал в другой раз бульдозер, и всё-таки сравнял с землёю "Сциллу и Харибду", а на месте пустыря возник цивилизованный бесполый Сквер, со стрижеными газонами и скамейками, где уже в открытую местные мужики начали всё чаще и чаще распивать вино и водку и сквернословить, а их жёны — прогуливаться с колясками…
"Может быть, с этого всё началось?" — подумал Саша, приближая к глазам запястье правой руки, где в миллиметре от вены начинался и уходил в сторону шрам.
Странное состояние, напоминавшее то, когда он был ребёнком, испытывал он сейчас, находясь уже с неделю в больнице.
Большую часть времени он проводил в постели, стараясь показать, что ему нездоровится, хотя больничный режим и запрещал лежать днём подолгу.
Полагалось чем-нибудь заниматься: ходить по коридору, читать книги, если больной мог сосредоточиться на чтении, или — клеить бумажные пакеты. С первого дня Сашку попытались вовлечь в это занятие, посадив за стол с другими больными. Эта деятельность считалась целебной и выгодной и называлась трудотерапией. За неё даже платили какие-то копейки. Однако Саша не мог вытерпеть однообразной работы. Под каким-нибудь предлогом он каждый раз выходил из-за стола, находил тихий угол, чтобы предаться чтению или воспоминаниям и размышлениям, в которые он теперь погружался так, что казалось, будто он видел сон, но при этом всё осознавал и контролировал.
Каждый день ему делали уколы и давали пить таблетки. Он старался их спрятать под языком, чтобы затем незаметно выплюнуть. Однако действие уколов, которых избежать было невозможно, оказалось таким, что без употребления таблеток начиналась невыносимая головная боль. И вскоре наступил день, когда Сашка "сломался" — перестал выплёвывать таблетки.
В их палате было восемь коек. Сначала ему выделили кровать у окна, но на следующий день попросили перейти на другую, рядом с первой, но находившуюся во втором от окна ряду. У окна же "поселился" молодой парень, по имени Борис, с каменным тридцатилетним лицом, который сразу же стал "набиваться в друзья". И Саша вспомнил о том, как его предупреждали: "бойся стукачей".
На все вопросы Бориса Саша отвечал односложно, стараясь казаться медлительным, подавленным. И когда стукач уставал его донимать и шёл в туалет курить, Сашка думал: "Плохо работаете, суки… Шито белыми нитками…" С самого начала он решил следовать пословице: "Надейся на лучшее — рассчитывай на худшее", и — ни с кем, ни под каким предлогом не говорить об истиной причине, почему он — тут. Вспоминая какие-то фильмы о войне, он представлял себя в концлагере, где каждый заключённый делает всё, чтобы выжить, и где большинство — трусы и подонки, готовые "пройти по головам" других, следуя правилу: "сегодня умри ты, а я умру завтра".
По другую, левую сторону Сашиной кровати помещался молодой мужик по имени Анатолий, окончивший Московский Авиационный Институт, раздражительный и едкий на слова еврей, страдавший неусидчивостью. Как "вечный жид" из книги Яна Потоцкого, он всё время "странствовал", только, конечно, не по миру, а — просто от своей койки до туалета. У его кровати, на тумбочке стояла кружка с водой, к которой он каждый раз "прикладывался", а когда вода кончалась, прихватывал кружку с собой, чтобы наполнить её в туалете, где кроме трёх открытых забетонированных в пол отхожих мест, находились раковина и кран с водопроводной водой. Неусидчивость, которой страдал Анатолий, по всей видимости, являлась побочным явлением какого-то другого, более общего или глубокого психического заболевания.
Четвёртая в этом ряду кровать обычно была свободна. Её занимал временно вновь поступавший больной, которого затем обязательно куда-нибудь переводили.
Читать дальше