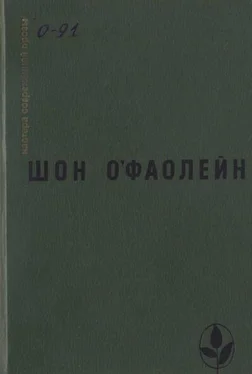Я поднял трубку и набрал номер против первой фамилии.
— Алло! Доктор Кьюзек? Говорит Дж. Дж. Янгер. Вы меня помните? Росмин-парк, дом 17.
Он был вежлив, но суховат.
— Доброе утро, мистер Янгер. Простите, я вас не помню. Вы были моим пациентом? Я, конечно, получил недели две назад ваше письмо из Лондона, где вы сообщали, что перебираетесь на жительство к нам. Вы нездоровы?
— Здоров как бык! — весело воскликнул я. — Звоню для порядку. Надеюсь с вами не скоро увидеться.
Я сказал еще несколько любезностей, положил трубку и впал в раздумье.
И так они будут все? И для всех для них я буду только именем или числом? Сглотнув, будто в страхе, как сглатываешь, заслышав плевки пуль над головой — а где же это, черт побери, я слышал плевки пуль над головой? — я сообразил, что боги обещали мне всего-навсего социальное обличье, и вот оно, пожалуйста, насмешливо расползлось передо мной по столу. Паспорт? А для чего вообще нужен паспорт, ведь только для того, чтобы такой или сякой чиновник признал владельца оного гражданином А в отличие от гражданина В, но мне-то — с мольбой к бумажной лавине, — мне-то надо знать, что за тип именуется гражданином А! Увидеть себя можно только чужими глазами — и не глазом Часового, Могильщика, Первого Убийцы или Призрака, а глазами близких друзей, которые знают меня и доверяют мне, которым я доверяю.
Лавина пододвинула ко мне еще две реликвии прошлого: пухлый альбом, до отказа набитый фотографиями, и солидную пачку записных книжек, перевязанную мохнатой бечевкой. Дневники, как оказалось, за многие годы. Я раскрыл альбом. Вот он я, мальчик, подросток, юноша, взрослый, щурюсь на солнце, ухмыляюсь другу, улыбаюсь фотографу, вот я в компании, на голове бумажная каска, вот играю в гольф, в теннис, я и девушка, я и две девушки, я и женщина с ребенком. Я перевел дыхание. Фотографии не лгут.
Целых три дня я, весело насвистывая, разбирал фотографии, отобрал двадцать пять из них и принялся раскладывать пасьянс. Эту сюда, эту к этой, на этих двух мне двадцать четыре — двадцать пять, а на этих не меньше сорока, эта блондинка, может статься, моя жена Бриджет, а это мой брат, хотя и сильно постарше меня. Где, однако же, мой сын Генри? Одно лицо на нескольких снимках. Эти мальчики все время с этой парой — обойдемся без них. А эта пара все время со мной. Близкий приятель? Нет, не моя это жена, она все с ним да с ним, из той пары, что все время со мной.
И вдруг мне подвернулась первая подходящая отмычка: снимок, где мне лет двадцать пять, я в панаме набекрень, в кремовом полотняном пиджаке, солнце сияет вовсю, и где-то это не то в Италии, не то на юге Франции. Пока что ничего особенного. Только если женщина с того снимка и правда моя жена, то почему же она не заснята в сиянии курортного солнца? Курортники всегда фотографируют друг друга. Подозрительно? Между прочим, во всем альбоме нет больше ни одного континентально-европейского снимка. Очень подозрительно! И ура! На обороте моей фотографии в панаме дата: 20.04.1924 и место. Кан… Кадам… Каденаббиа? Каннобио. Это на Лаго-Маджоре. Где там мой дневник за 1924-й? Ага, запись от 18 апреля, нервически-обстоятельная: «Виктория, встречаемся с К. на платформе в 10.30; одиннадцатичасовой к пароходу. Подчеркиваю: в 10.30. С Лионского вокзала поезд на Стрезу. Оттуда пароходом в Каннобио». К.? Что еще за К.? (Кстати, эти дневники были-таки мои собственные.)
Я вскочил и с фатовским снимком в руке кинулся к зеркалу, чтобы сличить свой веселый призрак с нынешним отражением: рыбий рот, мешки под глазами, крючковатый нос в прожилках, обвислые щеки, жиденькие космы — и все это вместе ухмылялось мне навстречу, словно говоря: «Ха-ха! Ну, немощный старый хрен, недолго ты будешь заедать мой век. Время, назад — назад к итальянским озерам, к блаженному солнцу, в хоровод уготованных мне девиц!» Я провальсировал по комнате, вернулся к своему пасьянсу и занялся женскими фотографиями.
Мое внимание привлекла темноволосая, вызывающе красивая, самоуверенная и осанистая молодая женщина лет двадцати пяти: она сидела на причальной тумбе, демонстрируя точеную ножку, стройную талию, пышные бедра. На обороте снимка карандашом «Б.» и слово «Уэксфорд». Б.? Би? Беатриче? Битрикс? Трикси? Только не Бриджет. Уже никак не Бриджет Олден. Это не моя жена. Не мой женский тип. В чем уверен, в том уверен.
А вот эта, куда более привлекательная, невысокая, белокурая, не первой молодости — вовсе не первой молодости, ей, пожалуй, под пятьдесят, — стоит возле какой-то статуи с белой птицей на голове? Мне она сразу приглянулась. Чайки. Дальние крики чаек. Я долго смотрел на нее. Я чувствовал, что, будь я помоложе, мне бы она потребовалась в большом количестве, — и очень расстроился, просмотрев весь толстый альбом от начала до конца и от конца к началу и не обнаружив больше ни одной ее фотографии. На обороте этого снимка опять-таки стояла одна буква — «А.», и на лицевой стороне, внизу, написано было слово «Чайки»; мол, очень художественное фото, потому и хранится — а это вряд ли, совсем плохонькая была фотография, типичный любительский снимок, застревающий среди других как напоминание о каком-то месте, событии, человеке. Я взял лупу, чтобы вглядеться в лицо женщины, и сразу узнал статую — памятник Уильяму Гарвею, ученому семнадцатого века, открывшему кровообращение. Я, помнится, писал статью к трехсотлетию его смерти в 1957 году. Припомнил я это разочарованно — зря я, значит, заподозрил тут лирическую подоплеку. Но, поразмыслив, остался доволен: предусмотрительно. Положим, некто будет с особым вниманием перелистывать альбом и спросит: «При чем здесь этот снимок?» — а я взгляну и небрежно брошу: «Как то есть? Это же Уильям Гарвей!»
Читать дальше