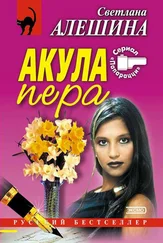— Все будет хорошо. — Сказала хирург. — Операция была сложная, матку удалили, шейку я, правда, оставила. Все хорошо будет с вашей подругой. Поезжайте уже спать.
— Сегодня было солнечное затмение…
— Ну и что? — она слегка усмехнулась. — У нас каждый день солнечное затмение. Я и сейчас плохо вас вижу. Поезжайте. Она в реанимации. Завтра, все завтра.
Вика пришла в себя утром. Перед глазами была пелена. Но уши слышали легкие шорохи шагов, тонкое металлическое треньканье. И вдруг возник знакомый голос: «Владимирский централ… Все отмеряно…»
Это медсестра включила радио.
Увидев трепыханье ресниц, медсестра ласково погладила ее по руке шершавой ладонью.
— Виктория Николаевна, все хорошо!
— Я не умерла?
— Вы — молодец! А сейчас я сделаю вам укольчик, и спите дальше, отдыхайте…
И снился ей сон.
Большая черная комната вся из зыбких штакетин — и пол и потолки. Пустая. А она веселая, красивая в коричневом шелковом халате, отороченном мехом, сидит посредине комнаты на стуле. Вдруг открывается дверь, и мимо, мимо за дверью проходят ее родственники, племянники, мама. С веселым удивлением смотрит она на этот странный ход, и вдруг понимает, что нет среди них бабушки и дедушки. И стоило ей вспомнить о них, как возникла покойница бабушка Анна, но уже в комнате, рядом с нею. И голос она ее услышала: «Что же ты, внуча, черненькую собачонку держишь? Брось! Возьми беленькую!»
Она вдруг увидела, что держит на коленях черненькую лохматую собачку, а в ногах ее сидит, умильно заглядывая в глаза, беленькая. Она схватила ее, прижала к груди, и увидела рядом деда Константина. Выражение его лица было обычным, строгим и почти скорбным. Она прижалась к его стариковскому овчинному полушубку, и они плакали вместе светлыми облегчающими слезами.
Пять дней она «отдыхала» в реанимации. Подруги приносили ей бульон, а медперсоналу татарские пирожки с мясом — обе обладали кулинарными талантами, — Вика всегда была у них на подхвате. Вика за жизнь научилась только блины печь по маминому рецепту, варить борщ да жарить картошку фри. Ничего своего фирменного у нее не было. Развитие этих способностей она постоянно откладывала на потом.
Потом она вышла из больницы, но жизнь уже не стала такой беспечной, какой была до операции. Она стала как-то «пробуксовывать», в то время, как ее подруги уверенно продвигались вперед. Хотя особых разногласий между ними не было, все же с ходом времени, нити, связывающие их, ослабевали. Каждый стал жить свою собственную жизнь, мало интересуясь другими. Встречались они на днях рождениях или на похоронах — пришло время хоронить родителей, потом наступил черед их собственный. Из некогда сильной шеренги выпали самые азартные, не выдержав соревнования за благополучие в России. Разочарования и вал жизненных дрязг, погрузили их в рутину обывательской жизни, когда повседневным заботам стало отдаваться все время. По сути, они стали малоинтересны друг для друга.
Любовь спряталась, ушла в глубину сердца, превратилась в Память. В Памяти люди всегда лучше, они там покладистее, красивее. А в жизни они стареют, становятся некрасивыми, делают ошибки, идут наперекор. Любовь от этого гаснет. Те, кто сильнее и успешнее, вошедшие в свой собственный авториторизм, не выносят больше неподчинения, даже тех, кого когда-то любили. Маленькая, бытовая, но власть вступает в силу. Власть проявляет свою волю — и над друзьями тоже.
Сейчас же, возвращаясь из Калужского, Виктория, пятидесяти пятилетняя женщина, задумавшая последний, наверное, в своей жизни, переезд, с грустью взирала на неровный ландшафт этих суровых и бедных мест. Ей вдруг пришло в голову, что не она это делает, выбирает себе пристанище, а кто-то другой, неведомый ей и упрямый. Ведет ее, как куклу на веревочке, в театре Образцова, передвигая с места на место по сцене жизни. Так было и в прошлый раз, когда она оказалась в Калининграде. Это было как некое затмение разума.
Она приехала в Калининград в начале апреля. Вода с неба, вода под ногами, асфальт в колдобинах, запущенные дворы, горы мусора на автобусных остановках, батареи пивных банок, которые не успевали собирать дворники, и пробирающая до костей сырость. Шествие людей под зонтами и ни одного улыбающегося лица навстречу. Обшарпанные стены уцелевших немецких зданий, со сбитыми барельефами, и даже руины, разгромленного в сорок четвертом города, никак не могли вдохновить любовь к нему. Так же как и безобразные панельные коробки советских построек в центре. Центральная улица от вокзала ничем не отличалась от петропавловской, курской, челябинской или саратовской.
Читать дальше