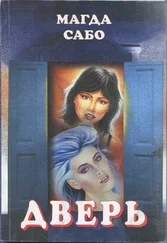— Невинное развлечение, вот и все, — сказал Домокош, скорее чтобы утешить Изу, встревоженную и опечаленную его рассказом. — Человек знакомится с городом. Радоваться этому надо.
Но Иза радоваться не могла: она не понимала поведения матери. Та никогда не говорила ей о своих путешествиях, словно скрывая свою причастность к какой-то мистерии; впрочем, теперь она вообще почти ничего ей не говорила. Терезу тишина в доме делала угрюмой и ворчливой: Тереза признавала или дружбу, или войну, а эта странная ситуация, стремление уклониться от общения, эти исчезновения неизвестно куда ей ох как не нравились. У Изы начался отпуск, уже были сняты три комнаты в Зебегени, и тут старая заявила, что передумала ехать, она останется в городе, новая обстановка ее только утомит. Два дня Иза уговаривала мать ехать с ними, потом смирилась; хотя ей и не по себе было, что мать почему-то предпочитает одиночество ее обществу, однако и стыд, и тревога не шли в сравнение с тем облегчением, которое она ощутила! Две недели у Дуная! Две недели свободы!
Из Зебегени она ежедневно звонила домой — и ежедневно слышала от матери одно и то же: спасибо, все хорошо, здоровье в порядке. Тереза тоже получила отпуск, старая сама убирала квартиру, готовила себе еду. Когда Иза вернулась, мать выглядела немного похудевшей, но спокойной. Она похвалила загар и свежий вид дочери — и тут же ушла к себе. Было воскресное утро, Иза полна была впечатлений, ей и в самом деле хотелось поговорить, она чувствовала себя отдохнувшей, напоенной солнцем. Отодвинув в сторону почту, она вошла к матери.
Старая готовилась уходить. Она сказала, что выслушает дочь как-нибудь попозже, а теперь ей надо идти. Иза слушала ее и не верила своим ушам. Мать взяла пустую сетку, попрощалась и вышла. Иза, опираясь на подоконник, растерянно смотрела вниз. Жары и духоты уже не было. Мать вышла из подъезда; теперь она не боялась машин так панически: во всяком случае, перешла она узкую полоску мостовой, до островка остановки, без посторонней помощи — и села на шестерку.
Продавец газет издали махал свежими номерами «Популярной физики» и «Лудаша Мати».
Сунув руку в карман, Антал нашарил мелочь. Свои газеты, медицинские журналы он выписывал на адрес клиники, юмористические журналы не любил; Антал был человек тихий и довольно замкнутый, шутка еще могла развеселить его, но изобилие шуток и острот наводило на него тоску; однако у него язык не поворачивался отказаться от услуг газетчика, который явно считал его правопреемником старого Сёча; во всяком случае, завидев в первый раз, как Антал снова открывает своим ключом ворота дома с драконьей пастью на водосточном желобе, он замахал ему со своего угла, потрясая любимыми изданиями старика, с таким восторгом, словно не Антал, а сам воскресший, да к тому же помолодевший Винце возился там с засовом.
Антал, как только у него завелись какие-то деньги, первым делом подписался на газеты; Винце же покупал прессу в киоске: так он привык за многие годы вынужденной своей отставки. Антал ни разу ни словом не обмолвился продавцу газет, что из-за него он платит за свои газеты двойную цену: газетчик любил Винце.
Дом подчинился ему не сразу; сначала он стал для Антала только источником новых забот.
Пока в нем работали каменщики и столяры, ему то и дело приходилось бегать туда из клиники, проверять, все ли идет так, как надо; с Гицей найти общий язык тоже было непросто: Гица свято блюла свою независимость, героически голодая на тощих доходах, приносимых ее, далеко не ходким, диковинным ремеслом. Гицу не просто пришлось уговаривать: всеми правдами и неправдами нужно было принудить ее готовить не мучную похлебку, а какую-нибудь человеческую еду. Гицу пришлось умолять, льстить ей, ссылаться на давние времена, прежде чем она согласилась ежедневно делать уборку в доме Антала и варить ему иногда обед. Это была очень нелегкая победа, ведь Гица, как и вся улица, до сих пор не простила Анталу Изу, так что каждый раз, отдавая ей деньги за месяц, он мог прочесть у нее на лице, какое с ее стороны это огромное одолжение, что она ведет у него хозяйство, и если бы не уважение к дому Сёчей, она ни в жизнь бы не стала делать услуги человеку, который способен взять и бросить такую девушку, как Иза Сёч.
Гица, конечно, только делала вид, что с пренебрежением относится к приработку и что со своих епитрахилей может прожить так же, как жила до войны; в большинстве приходов, спокойно меняя хозяев, бессрочно служили бог знает с каких времен дошедшие епитрахили; лишь круглый юбилей какого-нибудь заслуженного священника да приступы щедрости, охватывающие вдруг ту или иную общину, позволяли ей изредка находить применение своему мастерству. Честно говоря, Гица была счастлива несказанно, что у нее есть теперь постоянный доход, круг повседневных забот, что она околачивается среди рабочих и наблюдает, как старая мебель Сёчей превращается в новую, как дом становится более приспособленным для жилья, как меняют электропроводку. Гица с наслаждением отдавалась заботам; но если Анталу случалось зайти среди дня домой, она смотрела на него неприязненно и сурово: конечно, Антал давал ей хлеб насущный, но нельзя все-таки забывать, как он поступил с семьей Сёчей. Гица, собственно говоря, была не в восторге от того, что дом перешел к Анталу: зачем бочкарю дом и зачем ему вторая жена, после Изы-то? Вместе с домом Анталу досталась не только Гица, не только продавец газет, но еще и Кольман.
Читать дальше