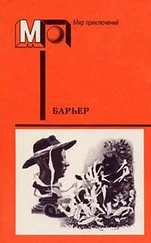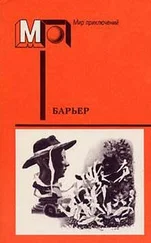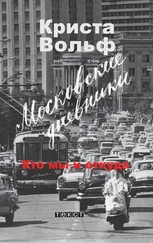Первые роды, которые пришлись как раз на это время, были тяжелые. Ребенок лежал неправильно. Усилия многих часов ни к чему не привели. Конечно же, она обессилела, но не искала спасения в мысли, что страдает напрасно. Сентиментальность даже в эти минуты не пришла ей на выручку, она все время помнила, что сама хотела ребенка и что четкое чередование разрывающих тело усилий и расслабленности необходимо для того, чтобы ребенок появился на свет. Она и потом ни разу не сказала, что с нее хватит, что нечего и требовать, чтобы она согласилась рожать вторично. Слезы выступили у нее на глазах, только когда врач приложил ребенка к ее груди и когда она впервые назвала его по имени: Анна. Ну что ты вытворяешь, Анна, хорошо же ты начинаешь, доложу я тебе. К радости она была готова, во всяком случае — к уже знакомым чувствам: это было незнакомым и потому смогло вывести ее из равновесия. Ну, ну, неслышно сказала она ребенку, сказала себе самой, это было еще одно и то же и уже не одно и то же, довольно, успокойся, подумаешь, какое событие.
Можно ли вспоминать нежность? Нежность ли то, что и сегодня поймет ребенок, услышав слова «твоя мать»? Хотя давно уже вырос из нежности, о которой мог бы вспоминать. Или нельзя, даже этого нельзя?
Ей покажут летний домик в неймаркской деревне. Вот здесь вы жили сначала. Тут ты училась ходить, ты пролезла через дыру в заборе, добежала до ближней опушки и уснула в ямке среди вереска и молодых сосенок, а твоя мать чуть не умерла от страха… И ребенку почудится, будто он вспоминает то, чего вспомнить не может, и сочные картины, которыми его потчуют, навсегда вытеснят те мимолетные тени, которые он порой видит, закрыв глаза, и которые во сто крат реальнее, чем эти, пышущие достоверностью картины. Ребенок, Анна, будет глядеть на озеро и воображать, будто перед ней озеро первых лет ее жизни. Но ведь это невозможно. Тогда это было не озеро, тогда это была вода вообще, а сто метров до берега — это была большая, дальняя дорога, и, кто знает, не она ли стала для нее мерой всех последующих дорог. Однажды настаёт день, когда она осознаёт свою тень, проверяет ее различными движениями и прикасается к ней. Все забыто. Забыты ранние страхи: темнота, когда вечером переступишь порог веранды, чужая собака, которую отец прогоняет, громко ругаясь, так что и завтра и послезавтра можно, громко ругаясь и грозя, встать на то же самое место, но собака все равно не появится. Заклинание подействовало. Всего хуже муха, которая каждый день, едва проснешься, летает вокруг лампы. Ее может прогнать мама. Забыто.
Она, Криста Т., ничего бы не забыла. Вероятно, она полагала, что человек обеспечен всем необходимым, коль скоро он выполняет те приемы, которые нужны ребенку, не задаваясь вопросом, откуда тебе это известно и почему, если склониться над постелью спящего ребенка, вдыхая его теплый аромат, тебя охватывает невозмутимое спокойствие. Год был добрый, год был переходный, маленький домик не был их жилищем, но им хорошо жилось в нем, они попали в благоприятное течение и плыли все вместе, он и она с домиком и ребенком, они составляли маленькое семейство, которое покамест не знало, где и когда выйдет на сушу и начнет жить всерьез.
Ах, если бы мы не жили как на бивуаке, сказал мне Юстус. Поскольку твердо знали, что здесь не останемся. Я думаю, мы знали это с самой первой минуты, хотя заговорили об этом лишь много спустя. Поэтому мы даже спальню толком не обставили. Ты видела, на чем она спала, этот низкий лежак за шкафом. Каким горьким бывало там порой ее пробуждение.
Я не знаю, о чем он думал на самом деле и думал ли вообще, я же думаю, что куда горше было бы ее пробуждение в нормальной спальне, когда каждое утро первый взгляд — на шкаф; он нерушимо высится на своем месте, хотя для нее далеко еще не началась обычная жизнь взрослых, которые уже обставились, которые уже обставлены. Для себя самой она осталась человеком с перспективами, с нераскрытыми возможностями.
Кто сейчас отвернется, кто пожмет плечами, — кто, отвернувшись от нее, Кристы Т., укажет на биографии более значительные и полезные, тот ничего не понял. Я же стремлюсь указать именно на нее. На богатства, которые она открывала, на величие, которое ей было доступно, на полезность, которая ей была открыта. И, значит, на тот захолустный мекленбургский городишко, который вырастает из картофельных и ржаных полей, городишко, словно на картинке, с длинным рядом красных амбаров, с горбатой булыжной мостовой, которая бежит к рынку, с церковью, аптекой, магазином и кафе. Когда Криста Т. подходит поближе и все оказывается именно таким, она невольно смеется, но это не смех победителя. Ибо конец неизвестен. Но она все равно смеется, потому что город так и остается городом, он не тает в воздухе, когда поглядишь внимательней, не опрокидывается, когда его тронешь пальцем. А что она при этом думала? Что серьезность так никогда и не наступит? Что серьезность нельзя сложить даже из цемента и камня? Вот, к примеру, большой дом на углу, ряд окон на втором этаже, вид на две проселочные дороги, которые скрещиваются как раз перед ним, двор с развесистым каштаном, истертая и холодная каменная лестница, уродливая коричневая дверь, на которой написано чье-то имя… Она хочет со вздохом облегчения пройти мимо, но на дверях стоит ее имя. И она входит.
Читать дальше