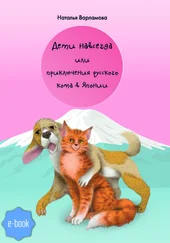— Владимир считает, что я не испытываю к нему никаких чувств, — объявила Фрэн, — и что он совсем один на этом свете.
— Какая чепуха! — пророкотал Джозеф. — Кто тебе такое сказал? Владимир, давай-ка, глотни арманьяка. Это успокаивает нервы. Вы оба выглядите такими… встрепанными.
— Что ты с ним сделала? — осведомилась Винси. — Ты опять слегка не в себе? С ней это бывает, ничего страшного.
— Опять слегка не в себе? — передразнила Франческа. — А ты, мама, опять с катушек съехала?
Джозеф Руокко сел на кровать рядом с Владимиром и обнял удрученного молодого человека. От Руокко пахло чистым спиртом и перебродившим виноградом, тем не менее держался он твердо и уверенно.
— Расскажи, что произошло, Владимир, и я постараюсь вас рассудить. Молодые нуждаются в советах старших. Рассказывай.
— Ничего особенного, — прошептал Владимир. — Все уже наладилось…
— Скажи ему, что любишь его, папа, — попросила Фрэн.
— Фрэнни! — закричал Владимир.
— Я люблю тебя, Владимир. — Профессор Джозеф Руокко хоть и был пьян, но каждое слово произносил с отменной убедительностью.
— И я тебя люблю. — Винси освободила себе место на кровати, села и дотронулась рукой до щеки Владимира, бледной, абсолютно бескровной. Все втроем они воззрились на Фрэнни.
Та уклончиво улыбнулась. Затем взяла на руки Кропоткина, проходившего мимо, и почесала его толстый живот. Кот смотрел на нее выжидающе. Все ждали, какой вердикт она вынесет.
— Ты мне очень нужен, — сказала она Владимиру.
— Вот видите! — обрадовался Джозеф. — Мы все любим Владимира и все нуждаемся в нем, каждый, разумеется, на свой лад… Послушай, Влад, в нашей семье ты занимаешь очень важное место. У меня есть дочь, единственная дочь. Думаю, твои родители хорошо понимают, что значит иметь единственную дочь… И она блестящая девочка… Не красней, Фрэнни, и не затыкай мне рот, я знаю, что говорю.
— Папочка, пожалуйста, — пробормотала она не совсем с упреком.
— Но за блестящий интеллект надо платить. Я не стану припоминать прецеденты, Владимир мариновался в нашей культуре достаточно долго, чтобы осознать место американской интеллигенции на здешнем тотемном столбе. Владимир понимает, что человек, которому предназначены великие свершения, часто самый несчастный человек на свете. И кто знает, где бы я был сейчас, если бы не Винси. Я люблю тебя, Винси. Если уж мы тут заговорили о любви, то почему бы не сказать тебе об этом. До того, как я встретил Винси, хм… я бывал резок, скажем так. И не очень-то со мной носились. А Фрэнни…
— Папа!
— Давай начистоту, доченька. Ты не самый легкий человек для совместной жизни. Уверен, что бы ты ни наговорила сегодня Владимиру, ты высказывалась необузданно и несправедливо.
— Необузданно, — встряла Винси. — Очень верно подмечено.
— Спасибо, Винси. Вот к чему я клоню: на свете не много людей, которые могут управиться с нашей Фрэнни. Но ты, Владимир, наделен удивительным смирением, прямо-таки сверхчеловеческой способностью терпеть… Возможно, это черта русского характера, ведь когда целый день стоишь в очереди за колбасой… Ха-ха, шучу. Но в остальном я абсолютно серьезен. Мы знаем, что ты можешь ужиться с гением Фрэнни, Владимир, возможно даже, время от времени тебе придется поддерживать в ней этот огонь. Я не уговариваю вас пожениться. Я лишь веду речь о том… А о чем, собственно, я веду речь?
— Мы любим тебя, — подытожила Винси. Потянувшись вперед, она поцеловала Владимира в губы, позволив ему ощутить вкус многих вещей. Лекарства. Крема. Кальмара. Выпивки.
Что ж, Руокко высказалисьисчерпывающе. Поцелуи стали даже излишеством. Они были искренни с ним.
И он наконец понял динамику происходящего.
Эта динамика была в немалой степени задана родительской прозорливостью, и спустя полтора месяца, после поселения Владимира в их доме, вот что было у Руокко на уме.
Они заживут одной семьей. Не слишком радикально отличающейся от традиционной русской семьи, если уж на то пошло. Та же коммунальная квартира, два поколения, разделенные хлипкой стенкой; шум, издаваемый молодой парой в постели, успокаивает стариков: их род не исчезнет. Владимир займет место рядом с Фрэн. Жизнь будет неровной и странной, но не более странной и определенно не более ужасной, чем та, что была у него прежде. По крайней мере, в глазах Руокко отсутствие амбиций у Владимира являлось скорее добродетелью, чем пороком. И ходить по-еврейски он сможет сколько душе угодно. Разворачивать ступни вправо-влево, напялить клоунские башмаки, если пожелает, и шлепать в них к супружескому ложу, прихлебывая по пути вечный арманьяк, — и никто ему слова не скажет.
Читать дальше