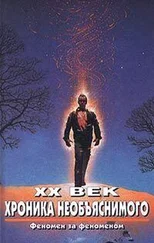Кажется, нет ничего проще, чем изложение любой истории с еe начала. Однако часто получается так, что найти это начало оказывается совсем не просто. И тогда приходится начинать повествование издалека, с ничего не значащего, на первый взгляд, эпизода.
Случился этот «эпизод» несколько лет назад, в середине октября, когда я, будто чумной, носился по заводу, собирая бумаги, необходимые для оформления ученического отпуска. Занятие это, довольно утомительное, стало уже привычным как для меня, так и для всего цеха, поэтому просьба Ивана Юртайкина не показалась мне странной. Всякий раз, когда я ехал на сессию в Литературный институт, кто-нибудь обращался ко мне с просьбой: к кому-то зайти, кому-то что-нибудь передать, приобрести в фирменном магазине (адрес которого напечатан на рекламном листочке) дефицитную у нас в городе продукцию…
— Ты в Москве долго будешь? — спросил Иван.
— Три недели, — ответил я. — Осенью всегда три недели. Весной — месяц.
— В общежитии будешь жить?
Я кивнул: «Как обычно».
— А метро «Новослободская» далеко оттуда?
— Две станции. Как раз между общагой и институтом.
— А улицу Фадеева знаешь?
Я не знал, но сказал, что смогу найти. Потому что по Москве всегда хожу с карманным атласом. Иван обрадовался и изложил мне свою просьбу. Дело оказалось в том, что тридцать с лишним лет назад Ивану делали в Москве операцию на головном мозге: удаляли опухоль.
— В институте имени Бурденко, — уточнил он. — Еще пацаном был, в хоккей зимой играл: упал. Затылком ударился, аж сознание потерял! А потом, через пару лет — голова начала болеть, все сильней и сильней. Врачи посмотрели — велели меня в Москву везти, потому что такие операции только там делают.
Просьба Ивана заключалась в том, чтобы зайти в регистратуру этого самого института имени Бурденко и узнать, можно ли ему записаться туда на прием. И, если получится, записать его.
— Хирург Квитко, Лев Борисович. Если что, запомнишь? Я напишу на всякий случай. — Иван полез в карман за карандашом. — Мне тогда — после операции — велели на обследования приезжать не реже одного раза в год. А я съездил пару раз, да и бросил. Чего зря суетиться, коли голова не болит? Тут женился, дети пошли… Какие там обследования! — он махнул рукой, затем прибавил: — А теперь вот, полтинник стукнуло: о пенсии пора подумать. Может — мне льгота какая положена? Все ж — операция на черепе! Меня ведь даже в армию из-за этого не взяли!
Просьба Ивана трудной мне не показалась, и я с охотой пообещал сделать все, что смогу. Тем более что Ивана знал давно, и как человек он был мне вполне симпатичен.
На следующий вечер я уехал. И ночью, трясясь на верхней полке в вагоне поезда «Саранск — Москва», терзаемый привычной бессонницей, думал, как ни странно, не о грядущих зачетах, а об Иване.
Никогда прежде, в целом человек общительный, он не говорил о своей болезни. Считал чем-то незначительным? Или стеснялся, опасаясь насмешек? Как много странного, однако, подчас скрывается в человеке! Ворочаясь с боку на бок, я вспоминал, сопоставляя как далекое, так и совсем недавнее прошлое. И, отчасти вопреки своей воле, повинуясь мерному стуку колес, отмечал то, на что прежде едва обращал внимание.
Мы познакомились пятнадцать лет назад, когда я, вернувшись из армии, поступил на вечернее отделение в университет и — параллельно — устроился на завод учеником токаря. Ивану было тогда столько, сколько мне теперь — 35, и он работал токарем уже несколько лет. Тогда, получив разряд и проработав год, я в первый раз женился и вскоре понял, что чем-то одним придется пожертвовать: либо семьей, либо работой, либо университетом. Жену я любил, в работе с каждым днем добивался все больших успехов, а вот с учебой возникали трудности. Поэтому, когда встал вопрос, я почти не сомневался. Поначалу оформил академический отпуск на год, потом продлил его еще и еще и в конце концов без излишнего шума забрал из вуза документы…
Тем не менее еще несколько лет за мной в цехе, будто приклеенная липкой лентой, ходила кличка «Студент». И, возможно, именно она послужила первопричиной моего с Иваном сближения. Вообще-то я был в ту пору замкнут и даже не всех в цехе помнил по именам. В работе же, кроме прочего, ценил то, что токарный станок громко шумит: то есть — и сам не разговаривает, и чужие разговоры слушать не дает. Когда кто-нибудь слишком надолго останавливался рядом, я дергал рычаг и, прикрываясь шумовой завесой, рубил контакты. Возможно, поэтому друзей на работе у меня не было; однако не было и врагов, и это меня вполне устраивало.
Читать дальше