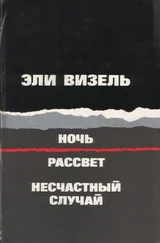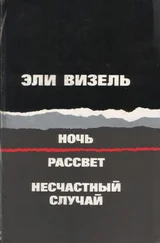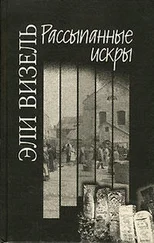Гамлиэль никогда не видел своего друга в таком состоянии. До этого момента Болек, если не считать редких вспышек раздражительности и кратких периодов хандры, воплощал силу и уравновешенность. Ничто не могло озадачить его или вывести из себя. Даже если кто-нибудь досаждал ему или бросал вызов, он не реагировал. Пожав плечами или сдвинув брови, он пропускал это мимо ушей и менял тему. Порой склонная к шуткам Ноэми упрекала его в этом: «Неужели у тебя в венах лед? И ты никогда не приходил в ярость? Тебе никогда не хотелось разбить тарелку о чью-нибудь голову, к примеру, мою?» Болек притворялся, будто не понимает: «Тарелка мне ничего не сделала, за что ее разбивать?» — тогда Ноэми с наигранным отчаянием призывала в свидетели всю землю: «Он ужасен, мой дражайший муженек, с ним совершенно нельзя поссориться!» Но сегодня Гамлиэль видел человека, с которого заживо содрали кожу.
Сколько они уже сидели здесь, на этой скамье, совсем близко от озера, где ребятишки забавлялись, швыряя в воду камни, чтобы заставить показаться несуществующих рыбок? Какая-то мамаша стала выговаривать им. Компания — дюжина мальчишек и девчонок — не обратила на нее никакого внимания. Возможно, это была не мать, в любом случае не их мать, а просто суровая гувернантка: она смотрела на них холодным взглядом, лишенным всякого чувства.
— Я помню тот рассвет во всех подробностях, — продолжил Болек. — Первые лучи солнца бросали на город пурпурный грязный свет. Звук шагов по булыжной мостовой. Густые тени, отступавшие с расчетливой медлительностью, словно в балете. И мой отец, мой бедный отец с согбенной спиной, словно он нес на плечах своих тяжесть веков. И мать, я помню ее лицо: никогда я не видел на нем выражения такой кротости.
Гамлиэлю захотелось взглянуть на него, но он обещал не делать этого. Почему Болек так настаивал, чтобы на него не смотрели? Быть может, он боялся сорваться, дать волю слезам? Или просто не хотел зайти слишком далеко в своей исповеди? Разве не сказал он, что у него на совести убийство? Было ли это намеком на смерть его близких? Гамлиэль решил, что пока будет держать обещание слушать друга, не глядя на него.
— Спустя час после исхода смертников, — сказал Болек, — я пробрался в гетто, прополз под колючей проволокой. Я ожидал увидеть его опустевшим, но улицы походили на улей: растерянные, испуганные люди сновали во все стороны, пытаясь найти родственника или знакомого. Они окликали друг друга: «Вы не видели…» Нет, никто не видел. «Куда их увели?» Никто не знал. «В тюрьму?» Вероятно. «В лагерь? В соседнюю деревню?» Возможно. «Они скоро вернутся?» Конечно. Никто не мог представить, что произошло на самом деле. На некоторых лицах отражалась напускная уверенность. Но большей частью люди с трудом скрывали радость, пусть даже и омраченную, что ускользнули от гибели. Я тоже принимал участие в разговорах. Нашел братьев и сестер, их детей, среди них маленького Мойшеле, которым повезло больше, чем Реувену и Ханнеле. Они не радовались, и я тоже. Как я мог? Я был жив, но заточен в гетто, и это не давало мне радоваться жизни.
Вскоре со мной вступила в контакт подпольная сионистская организация, входившая в движение Сопротивления. Ослабленная недавней депортацией многих членов, она приступила к торопливой, но интенсивной вербовке новых. Первой моей реакцией было отказаться. Я не скрыл своих сомнений от Зелига, которого одной безлунной ночью послали прощупать меня:
«Вы действительно намерены сражаться с немцами? А сколько у вас танков? И дивизий? У них самая мощная и наилучшим образом оснащенная армия в мире. Надменная, победоносная, она раздавила Польшу, унизила Францию, одолела многие народы, завоевала множество стран, оттеснила Красную Армию к пригородам Москвы — и вы рассчитываете продержаться против них хотя бы неделю или даже день? Ей-богу, вы сошли с ума!»
Зелиг слушал меня бесстрастно, а потом произнес короткую фразу, которая обожгла меня, словно пощечина:
«А еврейская честь?»
Я воскликнул:
«Какое отношение имеет еврейская честь ко всей этой истории?»
У него было готово объяснение:
«Бесчестно позволять врагу действовать, мучить, пытать и убивать по собственному произволу, не оказывая никакого сопротивления».
Тут я разозлился:
«Иначе говоря, для тебя, для вас те, кого увели на смерть три недели назад, все мои в том числе, жили и погибли бесчестно? Скажи мне, кто дал вам право судить их?»
Видимо, Зелиг был готов и к этой вспышке, так как не подал виду, что обиделся:
Читать дальше